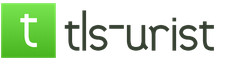В православной традиции икона занимает исключительное место. В сознании многих, особенно на Западе, Православие отождествляется прежде всего с византийскими и древнерусскими иконами. Мало кто знаком с православным богословием, мало кому известно социальное учение Православной Церкви, немногие заходят в православные храмы. Но репродукции с византийских и русских икон можно увидеть как в православной, так и в католической, протестантской и даже нехристианской среде. Икона является безмолвным и красноречивым проповедником Православия не только внутри Церкви, но и в чуждом для нее, а то и враждебном по отношению к ней мире. По словам Л. Успенского, “если в период иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время икона борется за Церковь”. Икона борется за Православие. В конечном же итоге, она борется за душу человеческую, потому что в спасении души заключается цель и смысл существования Церкви.
Е.Трубецкой называл икону “умозрением в красках”, а священник Павел Флоренский - “напоминанием о горнем первообразе”. Икона напоминает о Боге как том Первообразе, по образу и подобию которого создан каждый человек. Богословская значимость иконы обусловлена тем, что она живописным языком говорит о тех догматических истинах, которые открыты людям в Священном Писании и церковном Предании.
Святые Отцы называли икону Евангелием для неграмотных. “Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах”, писал святитель Григорий Великий, папа Римский. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, “изображение есть напоминание: и что для слуха - слово, это же для зрения - изображение; при помощи ума мы вступаем в единение с ним”. Преподобный Феодор Студит подчеркивает: “Что в Евангелии изображено посредством бумаги и чернил, то на иконе изображено посредством различных красок или какого-либо другого материала”. 6-е деяние Седьмого Вселенского Собора (787 г.) гласит: “Что слово сообщает через слух, то живопись показывает молча через изображение”.
“Если к тебе придет один из язычников, говоря: покажи мне твою веру... ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений”, - говорит преподобный Иоанн Дамаскин.
В то же время икону нельзя воспринимать как простую иллюстрацию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. Икона являет людям Бога Невидимого - Бога, Которого, по слову Евангелиста, “не видел никто никогда”, но Который был явлен человечеству в лице Богочеловека Иисуса Христа (Ин. 1:18).
Любое изображение невидимого Бога было бы плодом человеческой фантазии и ложью против Бога; поклонение такому изображению было бы поклонением твари вместо Творца. Однако Новый Завет был откровением Бога, Который стал человеком, то есть сделался видимым для людей. С той же настойчивостью, с какой Моисей говорит о том, что люди на Синае не видели Бога, апостолы говорят о том, что они видели Его: “И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца” (Ин. 1:14). И если Моисей подчеркивает, что народ израильский не видел “никакого образа”, а только слышал голос Божий, то апостол Павел называет Христа “образом Бога Невидимого” (Кол. 1:15), а Сам Христос говорит о Себе: “Видевший Меня видел Отца”. Невидимый Отец являет Себя миру через Свой образ, свою икону - через Иисуса Христа, невидимого Бога, ставшего видимым человеком.
Икона являет не просто человека Иисуса Христа, но именно Бога воплотившегося. В этом отличие иконы от живописи
Ренессанса, представляющей Христа “очеловеченным”, гуманизированным. Комментируя данное отличие, Л.Успенский пишет: “Церковь имеет “очи, чтобы видеть”, так же как “уши, чтобы слышать”. Поэтому и в Евангелии, написанном человеческим словом, она слышит слово Божие. Также и Христа она всегда видит очами непоколебимой веры в Его Божество. Поэтому она и показывает Его на иконе не как обыкновенного человека, а как Богочеловека в славе Его, даже в момент Его крайнего истощания... Именно поэтому Православная Церковь в своих иконах никогда не показывает Христа просто человеком, страдающим физически и психически, подобно тому как это делается в западной религиозной живописи”.
Собственно иконой Бога, единственным допустимым, с точки зрения православного Предания, изображением Бога является икона Христа - Бога, ставшего человеком.
В иконе при помощи художественных средств передаются основные догматы христианства - о Святой Троице, о Боговоплощении, о спасении и обожении человека.
Многие события евангельской истории трактуются в иконописи прежде всего в догматическом контексте. Например, на канонических православных иконах никогда не изображается воскресение Христово, а изображается исход Христа из ада и изведение Им оттуда ветхозаветных праведников. Образ Христа, выходящего из гроба, нередко со знаменем в руках - весьма позднего происхождения и генетически связан с западной религиозной живописью. Православное Предание знает лишь образ исшествия Христа из ада, соответствующий литургическому воспоминанию Воскресения Христова и богослужебным текстам Октоиха и Триоди цветной, раскрывающим это событие с догматической точки зрения.
Антропологическое значение иконы
Нет ни одной иконы, на которой не был бы изображен человек, будь то Богочеловек Иисус Христос, Пресвятая Богородица или кто-либо из святых. Исключение составляют лишь символические изображения, а также образы ангелов (впрочем, даже ангелы на иконах изображаются человекоподобными). Не существует икон-пейзажей, икон-натюрмортов. Ландшафт, растения, животные, бытовые предметы - все это может присутствовать в иконе, если того требует сюжет, но главным героем любого иконописного изображения является человек.
Икона - не портрет, она не претендует на точную передачу внешнего облика того или иного святого. Мы не знаем, как выглядели древние святые, но в нашем распоряжении имеется множество фотографий людей, которых Церковь прославила в лике святых в недавнее время. Сравнение фотографии святого с его иконой наглядно демонстрирует стремление иконописца сохранить лишь самые общие характерные особенности внешнего облика святого. На иконе он узнаваем, однако он иной, его черты утончены и облагорожены, им придан иконный облик.
Икона являет человека в его преображенном, обоженном состоянии. “Икона, - пишет Л.Успенский, - есть образ человека, в котором реально пребывает попаляющая страсти и всеосвящающая благодать Духа Святого. Поэтому плоть его изображается существенно иной, чем обычная тленная плоть человека. Икона - трезвенная, основанная на духовном опыте и совершенно лишенная всякой экзальтации передача определенной духовной реальности. Если благодать просвещает всего человека, так что весь его духовно-душевно-телесный состав охватывается молитвой и пребывает в божественном свете, то икона видимо запечатлевает этого человека, ставшего живой иконой, подобием Бога”.
Согласно библейскому откровению, человек был создан по образу и подобию Божию (Быт. 1:26). Об образе Божием как иконе божественной красоты прекрасно говорит святитель Григорий Нисский: “Божественная красота не во внешних чертах, не в приятном окладе лица и не какой-либо доброцветностью сияет, но усматривается в невыразимом блаженстве добродетели... Как живописцы представляют на картине человеческие лица красками, растирая для этого краски таких цветов, которые близко и соответственно выражают подобие, чтобы красота подлинника в точности изобразилась в списке, так представь себе, что и наш Зиждитель, как бы наложением некоторых красок, т.е. добродетелями, расцветил изображение до подобия с собственной Своей красотою, чтобы в нас показать собственное свое начальство. Многообразны и различны эти как бы краски изображения, которыми живописуется истинный образ: это не румянец, не белизна, не какое-либо смешение этих цветов одного с другим; не черный какой-либо очерк, изображающий брови и глаза; не какое-либо смешение красок, оттеняющее углубленные черты, и не что-либо подобное всему тому, что искусственно произведено руками живописцев, но вместо всего этого - чистота, бесстрастие, блаженство, отчуждение от всего худого и все однородное с тем, чем изображается в человеке подобие Божеству. Такими цветами Творец собственного Своего образа живописал наше естество”.
Икона являет нам преображенного человека. Плоть человека на иконах разительно отличается от плоти, изображаемой на живописных полотнах: это становится особенно очевидным при сопоставлении икон с реалистической живописью Ренессанса. Сравнивая древнерусские иконы с полотнами Рубенса, на которых изображена тучная человеческая плоть во всем ее обнаженном безобразии, Е. Трубецкой говорит о том, что икона противопоставляет новое жизнепонимание биологической, животной, зверопоклоннической жизни падшего человека. Главное в иконе, считает Трубецкой, - “радость окончательной победы Богочеловека над зверочеловеком, введение во храм всего человечества и всей твари”. Однако, по мнению философа, “к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом: он не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом храме нет места: и вот почему иконы нельзя писать с живых людей”.
Икона святого показывает не столько процесс, сколько результат, не столько путь, сколько пункт назначения, не столько движение к цели, сколько саму цель. На иконе перед нами предстает человек не борющийся со страстями, но уже победивший страсти, не взыскующий Царства Небесного, но уже достигший его. Поэтому икона не динамична, а статична. Главный герой иконы никогда не изображается в движении: он или стоит или сидит. (Исключение составляют житийные клейма). В движении изображаются только второстепенные персонажи, - например, волхвы на иконе Рождества Христова, - или герои многофигурных композиций, имеющих заведомо вспомогательный, иллюстративный характер.
По той же причине святой на иконе никогда не пишется в профиль, но почти всегда в фас или иногда, если того требует сюжет, в полупрофиль. В профиль изображаются только лица, которым не воздается поклонение, т.е. либо второстепенные персонажи (опять же, волхвы), либо отрицательные герои, например, Иуда-предатель на Тайной вечери. Животные на иконах тоже пишутся в профиль. Конь, на котором сидит святой Георгий Победоносец, изображен всегда в профиль, так же как и змий, которого поражает святой.
Та же причина - стремление показать человека в его обоженном, преображенном состоянии - заставляет иконописцев воздерживаться от изображения каких-либо телесных дефектов, которые были присущи святому при жизни. Человек, у которого не было одной руки, на иконе предстает с двумя руками, слепой предстает зрячим, и носивший очки на иконе их “снимает”. В этом смысле не вполне соответствующими иконописному канону следует признать некоторые иконы блаженной Матроны Московской, на которых она изображена с закрытыми глазами: несмотря на то, что она была слепой от рождения, на иконе она должна изображаться зрячей. С закрытыми глазами на древних иконах изображались не слепые, а мертвые - Божия Матерь в сцене Успения, Спаситель на кресте. Феофан Грек изображал с закрытыми глазами, с глазами без зрачков или вовсе без глаз некоторых аскетов и столпников, но все они при жизни были зрячими: изображая их таким образом, Феофан хотел подчеркнуть, что они полностью умерли для мира и умертвили в себе “всякое плотское мудрование”.
По учению святителя Григория Нисского, после воскресения мертвых люди получат новые тела, которые будут так же отличаться от их прежних, материальных тел, как тело Христа после Воскресения отличалось от Его земного тела. Новое, “прославленное” тело человека будет нематериальным, световидным и легким, однако оно сохранит “образ” материального тела. При этом, по словам святого Григория, никакие недостатки материального тела, как, например, различные увечья или признаки старения, не будут ему присущи. Точно так же и икона должна сохранять “образ” материального тела человека, но не должна воспроизводить телесные недостатки.
Икона избегает натуралистического изображения боли, страданий, она не ставит целью эмоционально воздействовать на зрителя. Иконе вообще чужда всякая эмоциональность, всякий надрыв. Именно поэтому на византийской и русской иконе распятия, в отличие от ее западного аналога, Христос изображается умершим, а не страждущим. Последним словом Христа на кресте было: “Свершилось” (Ин. 19:30). Икона показывает то, что произошло после этого, а не то, что этому предшествовало, не процесс, а итог: она являет свершившееся. Боль, страдания, агония, - то, что так привлекало в образе Христа страждущего западных живописцев эпохи Ренессанса, - все это в иконе остается за кадром. На православной иконе распятия представлен мертвый Христос, но Он не менее прекрасен, чем на иконах, изображающих Его живым.
Главным содержательным элементом иконы является ее лик. Древние иконописцы отличали “личное” от “доличного”: последнее, включавшее фон, ландшафт, одежды, нередко поручалось ученику, подмастерью, тогда как лики всегда писал сам мастер. К “личному” всегда подходили с особой тщательностью, и эта часть труда иконописца ценилась особенно высоко (если икона писалась на заказ, за “личное” могла устанавливаться отдельная, более высокая плата). Духовным центром иконного лика являются глаза, которые редко смотрят прямо в глаза зрителя, но и не направлены в сторону: чаще всего они смотрят как бы “поверх” зрителя - не столько ему в глаза, сколько в душу.
“Личное” включает не только лик, но и руки. В иконах руки часто обладают особой выразительностью. Преподобные отцы нередко изображаются с поднятыми вверх руками, причем ладони обращены к зрителю. Этот характерный жест - как и на иконах Пресвятой Богородицы типа “Оранта” - является символом молитвенного обращения к Богу. В то же время он указывает на отторжение святым мира сего со всеми его страстями и похотями.
Некоторые иконы включают не только изображение святого, но и сцены из его жизни - это так называемые иконы с житием. Клейма таких икон, содержащие изображения сцен из жизни святого, расположены в виде рамы по сторонам от основного изображения и читаются слева направо. Каждое клеймо представляет собой миниатюрную икону, написанную в соответствии с иконописным каноном. В то же время клейма, которые выстроены в единую цепь, воспроизводящую жизнь святого в порядке, максимально приближенном к хронологическому, вписываются в общую архитектонику иконы. Если основное изображение святого являет итог его подвижнической деятельности, то клейма иллюстрируют тот путь, по которому он пришел к цели. Поэтому в клеймах святой может быть изображен в движении.
Природа, все земное мироздание является отображением божественной красоты, и именно это призвана явить икона. “Красота и безобразие не равно распределены в мире: в целом красоте принадлежит перевес”, утверждает Н. Лосский. В иконе - абсолютное преобладание красоты и почти полное отсутствие безобразия. Даже змий на иконе святого Георгия и бесы в сцене Страшного суда имеют менее устрашающий и отталкивающий вид, чем многие персонажи Босха и Гойи.
Продолжение следует
Библиотека “Благовещение”
Как писали иконы
Иконопись в Древней Руси была делом священным. Строгое следование каноническим предписаниям, заставляла художника все свое мастерство, все свое внимание сфокусировать на сути “духовного предмета”.
При написании икон в Древней Руси применяли краски, в которых связующей средой являлась эмульсия из воды и яичного желтка - темпера.
Иконы чаще всего писали на деревянных досках.Доску, как правило, вытесывали из бревна, выбирая наиболее крепкий внутренний слой древесного ствола. На лицевой стороне доски обычно делалась неглубокая выемка - ковчег, ограниченный по краям доски незначительно возвышающимися над ним полями. Для икон большого размера соединялось несколько досок.
В качестве грунта применялся левкас, который приготовлялся из мела или алебастра и рыбьего (осетрового) клея. Иконную доску несколько раз промазывали жидким горячим клеем, затем наклеивали паволоку, притирая ее ладонью. После высыхания паволоки наносили левкас. Левкас накладывался слоями. Поверхность левкаса тщательно выравнивалась, а порой шлифовалась.
На подготовленной поверхности грунта делался рисунок. После этого начиналось собственно письмо. Сначала золотили все, что требовалось: поля иконы, свет, венцы, складки одежды. Затем выполнялось доличное письмо, то есть писались одежды, строения, пейзаж. На заключительном этапе - лики. Готовое изображение покрывали особого рода масляным лаком - “проолифливали”.
Работа красками выполнялась в строго определенной последовательности. И иконное письмо, и его последовательность не были одинаковыми в разных иконописных школах и менялись во времени.
Сначала участки, ограниченные контурами рисунка, покрывались тонкими слоями красок в таком порядке: фон (если он не золотой), горы, строения, одежды, открытые части тела, лики. После этого делалось пробеливание, при котором высветлялись выпуклые детали предметов (кроме ликов и рук). Постепенно добавляя к краске белила, покрывали все меньшие и меньшие участки высветления.
Руководством к написанию икон служили образцы - “подлинники”. Подлинники содержали указания, как должно писать тот или иной образ.
Изограф специально готовился к совершению “дела иконотворения”:”...он, когда писал святую икону, только по субботам и воскресениям касался пищи, не давая себе покоя день и ночь. Ночь проводил в бдении, молитве и поклонах. Днем же со всяким смирением, нестяжанием, чистотою, терпением, постом, любовию, Богомышлением предавался иконописанию”.
К сожалению, масляный лак - олифа со временем темнеет, и примерно через восемьдесят лет после нанесения пленка лака на иконе становится черной и почти полностью закрывает живопись. Иконы приходилось “поновлять”.
иеромонах Тихон (Козушин) «Святые Лики»
Икона по своему назначению литургична, она является неотъемлемой частью литургического пространства - храма - и непременным участником богослужения. “Икона по сущности своей... никак не является образом, предназначенным для личного благоговейного поклонения, - пишет иеромонах Габриэль Бунге. - Ее богословское место - это, прежде всего, литургия”. Вне храма и литургии икона в значительной степени утрачивает свой смысл. Конечно, всякий христианин имеет право поместить иконы у себя дома, но этим правом он обладает лишь постольку, поскольку его дом является продолжением храма, а его жизнь - продолжением литургии. В музее же иконе не место. “Икона в музее не живет, а только существует как засушенный цветок в гербарии или как бабочка на булавке в коробке коллекционера”.
Икона участвует в богослужении наряду с Евангелием и другими священными предметами. В традиции Православной Церкви Евангелие является не только книгой для чтения, но и предметом, которому воздается литургическое поклонение: за богослужением Евангелие торжественно выносят, верующие прикладываются к Евангелию. Точно так же и икона, которая есть “Евангелие в красках”, является объектом не только лицезрения, но и молитвенного поклонения. К иконе прикладываются, перед ней совершают каждение, перед ней кладут земные и поясные поклоны. При этом, однако, христианин кланяется не раскрашенной доске, но тому, кто на ней изображен, поскольку, по словам святого Василия Великого, “честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз”.
Смысл иконы как объекта богослужебного поклонения раскрывается в догматическом определении Седьмого Вселенского собора, который постановил “чествовать иконы лобзанием и почтительным поклонением - не тем истинным по нашей вере служением, которое приличествуют одному только Божескому естеству, но почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего Креста и святому Евангелию, и прочим святыням”. Отцы Собора, вслед за преподобным Иоанном Дамаскиным, отличали служение, которое воздается Богу, от поклонения, которое воздается ангелу или человеку обоженному, будь то Пресвятая Богородица или кто-либо из святых.
В наше время наиболее распространена икона, написанная на доске по индивидуальному заказу - для храмового или домашнего употребления. Такая икона может быть тематически не связана с другими иконами, она живет своей жизнью, ее дарят и передаривают, выставляют в музее, вешают на стене в храме или дома. В зависимости от вкуса заказчика, иконы пишут в византийском, древнерусском, “ушаковском”, “академическом” или каком-либо ином стиле.
В древней Церкви наиболее распространенной была икона, написанная для конкретного храма в качестве части храмового ансамбля. Такая икона не является изолированной: она неразрывно связана с другими иконами, находящимися от нее в непосредственной близости. В каждую эпоху икона писалась в том стиле, который сложился к этому времени: менялась эпоха, менялся и стиль, менялись эстетические стандарты, технические приемы. Неизменным оставался лишь иконописный канон, который складывался на протяжении веков. Вся древняя иконопись была строго каноничной и не оставляла простора для человеческой фантазии.
Древние храмы украшались не столько иконами, написанными на доске, сколько стенной живописью: именно фреска является наиболее ранним образцом православной иконографии. Самым очевидным отличием фрески от иконы является то, что фреску невозможно вынести из храма: она намертво “прикреплена” к стене. Фреска живет вместе с храмом, стареет вместе с ним, реставрируется вместе с ним и погибает вместе с ним. Икону же можно внести в храм и вынести из храма, ее можно переместить с одного места на другое. В эпоху нового иконоборчества и богоборчества, наступившую после революции 1917 года, фрески погибали вместе с разрушаемыми храмами, тогда как иконы погибали вне храмов - в кострах, которые полыхали по всей России. Некоторую часть икон, вынесенных из храмов, удалось спасти, и они нашли приют в музеях древнего искусства или музеях атеизма, в закрытых хранилищах и на складах. Фрески же из разрушенных храмов оказались утраченными безвозвратно.
Будучи неразрывно связана с храмом, фреска составляет часть литургического пространства. Сюжеты фресок, так же как и сюжеты икон, соответствуют тематике годового богослужебного круга.
В течение года Церковь вспоминает основные события библейской и евангельской истории, события из жизни Пресвятой Богородицы и из истории Церкви. Каждый день церковного календаря посвящен памяти тех или иных святых - мучеников, святителей, преподобных, исповедников, благоверных князей, юродивых и т.д. В соответствии с этим настенная роспись может включать в себя изображения церковных праздников как христологического, так и богородичного цикла, образы святых, сцены из Ветхого и Нового Заветов.
В ранневизантийском храме икон было немного: два образа - Спасителя и Божией Матери - могли размещаться перед алтарем, тогда как стены храма украшались исключительно или почти исключительно фресками.
В византийских храмах не было многоярусных иконостасов: алтарь отделялся от наоса невысокой преградой, которая не скрывала происходящее в алтаре от глаз верующих. До сего дня на греческом Востоке иконостасы делаются главным образом одноярусными, с невысокими царскими вратами, а чаще и вовсе без царских врат. Многоярусные иконостасы получили широкое распространение на Руси в послемонгольскую эпоху; к XV веку появляются трехъярусные иконостасы, в XVI веке - четырехъярусные, в XVII-м - пяти-, шести- и семиярусные.
Развитие иконостаса на Руси имеет свои глубокие богословские причины. Богословский смысл иконостаса заключается в том, чтобы открыть ту реальность, окном в которую является каждая икона. По словам Флоренского, иконостас “не прячет что-то от верующих... а напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им вход в иной мир, запертый от них собственной косностью, кричит им в глухие уши о Царстве Небесном”.
Трудно не согласиться и с теми исследователями, которые отмечают, что превращение иконостаса в глухую непроницаемую стену между алтарем и наосом оказало отрицательное воздействие на литургическую традицию Русской Церкви. Высокий иконостас изолировал алтарь от основного пространства храма, способствовал разрыву между клиром и церковным народом: последний из активного участника богослужения превратился в пассивного слушателя-зрителя. Возгласы священника, доносящиеся до народа из-за глухой стены иконостаса с закрытыми царскими вратами и задернутой завесой, никак не способствуют вовлечению молящегося в то “общее дело”, каковым должна быть Божественная Литургия и всякое церковное богослужение.
Развитие иконописания, изменения в иконописном стиле, возникновение или исчезновение тех или иных элементов храмового убранства - все это неразрывно связано с литургической жизнью Церкви, с уровнем евхаристического благочестия церковного народа.
Для раннехристианской Церкви характерно активное участие в богослужении всех верующих - и клириков, и мирян. Евхаристические молитвы в древней Церкви читаются вслух, а не тайно; народ, а не хор, отвечает на возгласы священника; все верующие, а не только клирики или специально готовившиеся к причащению, подходят к Святой Чаше. Этому церковному опыту соответствует открытый алтарь, отсутствие видимой стены между духовенством и народом. В настенных росписях этого периода важнейшее место отводится евхаристической тематике. Евхаристический подтекст имеют уже раннехристианские настенные символы, такие как чаша, рыба, агнец, корзина с хлебами, виноградная лоза, птица, клюющая виноградную гроздь.
В византийскую эпоху вся храмовая роспись тематически ориентируется на алтарь, по-прежнему остающийся открытым, а алтарь расписывается образами, имеющими непосредственное отношение к Евхаристии. К числу таковых относится “Причащение апостолов”, “Тайная вечеря”, изображения творцов Литургии (в частности, Василия Великого и Иоанна Златоуста) и церковных гимнографов. Все эти образы должны настроить верующего на евхаристический лад, подготовить его к полноценному участию в Литургии, к причащению Тела и Крови Христовых.
Изменение евхаристического сознания, когда причащение перестало быть неотъемлемым элементом участия всякого верующего в Евхаристии, а литургия перестала быть “общим делом”, привело к псевдоморфозе и в иконописном искусстве. Евхаристия стала прежде всего достоянием клириков, которые сохраняли обычай причащаться за каждой литургией, тогда как народ стал причащаться редко и нерегулярно. В соответствии с этим алтарь был отделен от наоса, между причащающимися клириками и непричащающимися мирянами выросла стена иконостаса, росписи алтаря, посвященные Евхаристии, оказались сокрытыми от глаз мирян.
Изменение стиля иконописания в разные эпохи было тоже связано с изменением евхаристического сознания. В синодальный период (XVIII-XIX века) в русском церковном благочестии окончательно закрепился обычай причащаться один или несколько раз в год: в большинстве случаев люди приходили в храм, чтобы “отстоять” обедню, а не для того, чтобы приобщиться Святых Христовых Тайн. Упадку евхаристического сознания полностью соответствовал тот упадок в церковном искусстве, который привел к замене иконописи реалистичной “академической” живописью, а древнего знаменного пения партесным многоголосием.
Возрождение евхаристического благочестия в начале XX века, стремление к более частому причащению, попытки преодоления барьера между духовенством и народом - все эти процессы по времени совпали с “открытием” иконы, с возрождением интереса к древнему иконописанию. Одновременно в Русскую Церковь стал возвращаться низкий одноярусный иконостас, открывающий взору молящихся то, что происходит в алтаре. Церковные художники начала XX века начинают искать пути к возрождению канонического иконописания.
Мистический смысл иконы
Икона неразрывно связана с духовной жизнью христианина, с его опытом богообщения, опытом соприкосновения с горним миром. В то же время икона отражает мистический опыт всей полноты Церкви, а не только отдельных ее членов. Личный духовный опыт художника не может не отображаться в иконе, но он преломляется в опыте Церкви и проверяется им. Феофан Грек, Андрей Рублев и другие мастера прошлого были людьми глубокой внутренней духовной жизни. Но они не писали “от себя”, их иконы глубочайшим образом укоренены в церковном Предании, включающем в себя весь многовековой опыт Церкви.
Многие великие иконописцы были великими созерцателями. По свидетельству преподобного Иосифа Волоцкого о Данииле Черном и Андрее Рублеве, “иконописцы Даниил и ученик его Андрей... толику добродетель имуще, и толико потщание о постничестве и о иноческом жительстве, якоже им божественныя благодати сподобитися и толико в божественную любовь предуспети, яко никогда же о земных упражнятися, но всегда ум и мысль взносити к невещественному и божественному свету... ”.
Опыт созерцания божественного света, о котором говорится в приведенном тексте, отражен во многих иконах - как византийских, так и русских. Это особенно относится к иконам периода византийского исихазма (XI-XV вв.), а также к русским иконам и фрескам XIV-XV веков. В соответствии с исихастским учением о фаворском свете как нетварном свете Божества лик Спасителя, Пресвятой Богородицы и святых на иконах и фресках этого периода нередко “подсвечивается” белилами. Получает распространение образ Спасителя в белом одеянии с исходящими от Него золотыми лучами - образ, основанный на евангельском рассказе о Преображении Господнем. Обильное использование золота в иконописи исихастского периода тоже связано с учением о фаворском свете.
Икона вырастает из молитвы, и без молитвы не может быть настоящей иконы. Она создается в молитве и ради молитвы, движущей силой которой является любовь к Богу, стремление к Нему как совершенной Красоте. Будучи плодом молитвы, икона является и школой молитвы для тех, кто созерцает ее и молится перед ней, икона располагает к молитве. В то же время молитва выводит человека за пределы иконы, поставляя его перед лицом самого первообраза - Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святого.
Особого рассмотрения заслуживает вопрос о соотношении между иконой и чудом. В Православной Церкви широко распространены чудотворные иконы, с которыми связаны случаи исцелений или избавлений от военной опасности. В России особенным почитанием пользуются Владимирская, Казанская, Иверская, “Взыскание погибших”, “Всех скорбящих Радость” и другие чудотворные иконы Божьей Матери.
В последние годы в России получило распространение явление, которому многие придают мистический смысл: речь идет о мироточении икон. В наши дни иконы мироточат повсюду - в монастырях, храмах и частных домах; мироточат иконы Спасителя, Божией Матери, святителя Николая, святого великомученика Пантелеимона, царя-мученика Николая II и других святых. Мироточат как древние иконы, так и современные, даже репродукции с икон и открытки, на которых изображены иконы.
Как относиться к этому феномену? Прежде всего, следует сказать о том, что мироточение является неопровержимым, многократно зафиксированным фактом, который невозможно подвергать сомнению. Но одно дело - факт, другое - его истолкование. Когда в мироточении икон видят признак наступления апокалиптических времен и близости пришествия антихриста, то это не более чем частное мнение, никоим образом не вытекающее из сути самого феномена мироточения. Мне думается, что мироточение икон - не мрачное предзнаменование грядущих бедствий, а, наоборот, явление милости Божией, посланной для утешения и духовного укрепления верующих. Икона, источающая миро, является свидетельством реального присутствия в Церкви того, кто на ней изображен: она свидетельствует о близости к нам Бога, Его Пречистой Матери и святых.
Богословское истолкование феномена мироточения требует особой духовной мудрости и трезвенности. Ажиотаж или паника вокруг этого феномена неуместны и наносят вред Церкви. Погоня за “чудом ради чуда” вообще никогда не была свойственна истинным христианам. Величайшее чудо Церкви - Евхаристия, на которой хлеб и вино прелагаются в Тело и Кровь Спасителя. Не меньшим чудом является то духовное изменение, что происходит с верующими благодаря участию в таинствах Церкви. Но для осознания смысла этих чудес необходимы духовные очи, которые у многих помрачены грехом, мироточение же зрится физическими очами. Поэтому к мироточению некоторые относятся с бoльшим почтением, чем даже к самой Евхаристии.
Необходимо отметить, что чудотворными, мироточивыми могут быть не только иконы канонического письма, но и, написанные в живописном, академическом стиле, и вообще далекие от иконописного канона изображения на религиозные темы. Однако ни чудотворение, ни мироточение, ни другие подобные феномены сами по себе не превращают живопись в иконопись.
В отношении иконописания Церковь всегда выдвигала в качестве основного критерий каноничности, а не критерий чудотворения. “Основа всей жизни Церкви - несомненно решающее и все для нее определяющее чудо: воплощение Бога и обожение человека... - говорит Л.Успенский. - Это именно чудо и есть норма жизни Церкви, закрепленная в ее каноне, которая и противопоставляется настоящему состоянию мира. Церковь живет не тем, что преходяще и индивидуально, а тем, что неизменно. Не потому ли чудеса никогда не были для нее критерием и жизнь Церкви никогда по ним не равнялась? И не случайно то, что соборные постановления предписывают писать иконы, основываясь не на чудотворных образцах (потому что чудотворение иконы есть внешнее временное, а не постоянное ее проявление), а так, как писали древние иконописцы, то есть по иконописному канону”.
ИЛАРИОН(Алфеев), епископ Венский и Австрийский
Библиотека “Благовещение”
Предисловие
Всеми признано, что русская православная икона – одно из высочайших достижений человеческого духа. Сейчас трудно найти в Европе такой храм (католический или протестантский), где бы не было православной иконы, хотя бы хорошей репродукции на доске из обработанного дерева, помещенной на самом видном месте.
Вместе с тем русские иконы стали предметом спекуляции, контрабанды, подделок. Поразительно, что, несмотря на многолетнее расхищение такого достояния нашей национальной культуры, поток русских икон не иссякает. Это свидетельствует о грандиозном творческом потенциале русского народа, создавшего за минувшие века столь великое богатство.
Однако человеку при таком изобилии икон довольно трудно разобраться и понять, что является подлинно духоносным творением религиозного чувства и веры, а что – неудачной попыткой создать образ Спасителя, Божьей Матери или святого. Отсюда неизбежная фетишизация иконы и снижение ее высокого духовного назначения до обычного почитаемого предмета.
При знакомстве с иконами разных веков нам необходимы объяснения специалистов, подобные рассказу экскурсовода, который укажет нам, рассматривающим древний собор, отличия древних частей здания от позднейших пристроек, обратит внимание на малозаметные на первый взгляд, но очень важные детали, характерные для того или иного времени или стиля.
В изучении икон, в стремлении лучше понимать эти творения человеческого духа становится необычайно важным опыт людей, сочетающих профессиональное искусствоведческое образование со значительным стажем жизни в Церкви. Именно это и отличает автора предлагаемой вниманию уважаемого читателя книги. В живой и доступной форме в книге рассказывается о первых христианских изображениях. Вначале это были символы: рыба, якорь, крест. Затем наступил переход от символа к иконе, если вспомнить образ доброго пастыря с ягненком на плечах. И наконец появились ранние иконы – синтез античной живописи и христианского мировоззрения. Объяснение смысла иконного образа от раннего византийского до русского помогает понять, что такое икона, каковы ее стиль, символика, художественный язык. Зная этот язык, мы сможем понять истинное значение подлинных шедевров и отличить их от неудачных попыток подражания.
Сегодня Россия вновь призвана к духовному возрождению. Осознание лучшего и наиболее ценного в христианской, и особенно в православной традиции совершенно необходимо для создания плодотворной атмосферы, в которой станет возможным возрождение старых и возникновение новых путей в религиозном искусстве.
Протоиерей Александр Борисов
Предисловие ко второму изданию
В православной традиции икона занимает исключительное место. В сознании многих людей во всем мире православие отождествляется прежде всего с византийскими и древнерусскими иконами. Мало кто знаком с православным богословием, мало кому известно социальное учение Православной церкви, немногие заходят в православные храмы. Но репродукции с византийских и русских икон можно увидеть как в православной, так и в католической, протестантской и даже нехристианской среде. Икона является безмолвным и красноречивым проповедником православия не только внутри Церкви, но и в чуждом для нее, а то и враждебном по отношению к ней мире. По словам Л. Успенского, «если в период иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время икона борется за Церковь» . Икона борется за православие, за истину, за красоту. В конечном же итоге она борется за душу человеческую, потому что в спасении души заключается цель и смысл существования Церкви.
О богословии иконы к настоящему моменту написано немало, сказать на эту тему что-либо принципиально новое трудно. «Открытие» иконы на рубеже XIX и XX веков, когда древние образы стали вынимать из-под окладов и расчищать, породило обширную литературу: к числу наиболее значимых иконоведческих работ первой половины XX века следует отнести «Три очерка о русской иконе» Е. Трубецкого и «Иконостас» свящ. Павла Флоренского. Во второй половине XX столетия «Русский Париж» дал фундаментальное исследование «Богословие иконы в Православной Церкви», принадлежащее перу Л. А. Успенского. В числе наиболее значимых работ по бого словию иконы, появившихся в последние десятилетия XX века, следует упомянуть также блестящее исследование кардинала Кристофа Шенборна «Икона Христа», книгу иеромонаха Габриэля Бунге «Другой Утешитель», посвященную иконографии Святой Троицы, и «Беседы иконописца» архимандрита Зинона (Теодора). В этом же ряду находится и блестящее исследование И. К. Языковой «Со-творение образа. Богословие иконы», выходящее ныне вторым изданием.
Книга И. К. Языковой была написана как учебник для духовных школ и вышла большим тиражом, который уже весь разошелся, поскольку эта книга оказалась востребованной иконописцами, студентами светских учебных заведений и просто людьми, интересующимися православным искусством. И читательский интерес к ней не иссякает. Если десять лет назад внимание к теме было обусловлено потребностью читателя восполнить недостаток духовной информации, то сегодня интерес к теме иконы объясняется уже причинами более глубокого порядка. С каждым годом возрастает понимание необходимости сохранения традиционных христианских ценностей, которые утрачивает мир. Наряду с этим растет понимание значимости Церкви и церковной культуры для России. Но современный человек нуждается в путеводителе в мир традиции, язык которой, как и всякий язык, необходимо усвоить, прежде чем воспринять те богатства, что накоплены православием за два тысячелетия его истории. В этом великом наследии икона занимает особое место.
Святые отцы называли икону Евангелием для неграмотных. Сегодня наши соотечественники при том, что практически все они грамотные, не всегда понимают, о чем говорит Евангелие, испытывают затруднения при чтении библейских текстов. Икона помогает в раскрытии глубокого смысла Священного Писания.
Конечно, икону нельзя воспринимать как простую иллюстрацию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. «Икона ничего не изображает, она являет», – говорит архимандрит Зинон . Прежде всего она являет людям Бога Невидимого – Бога, которого, по слову евангелиста, «не видел никто никогда», но который был явлен человечеству в лице Богочеловека Иисуса Христа (Ин 1:18). И в этом смысле иконописное изображение, апеллируя не только к разуму, но и к сердцу зрителя, призвано помочь через созерцание образа приблизиться к Первообразу. Образы иконы приучают наши глаза к видению не только вещей физических, а ум настраивают на созерцание горнего мира.
Православие понимает икону как один из видов богословия. Так, Е. Трубецкой называл икону «умозрением в красках» . В иконе при помощи художественных средств передаются основные догматы христианства: о Святой Троице, о Боговоплощении, о спасении и обожении человека. Она являет то, что недоступно пониманию рационального сознания, но открывается за пределами слов.
Икона по своему назначению литургична, она является неотъемлемой частью литургического пространства – храма – и непременным участником богослужения. «Икона по сущности своей… никак не является образом, предназначенным для личного благоговейного поклонения, – пишет иеромонах Габриэль Бунге. – Ее богословское место – это прежде всего литургия, где благовестие Слова восполняется благовестием образа» . Вне контекста храма и литургии икона в значительной степени утрачивает свой смысл. Но порой и в храм войти современному человеку помогает именно икона.
Икона мистична. Она неразрывно связана с духовной жизнью христианина, с его опытом богообщения, опытом соприкосновения с горним миром. В то же время икона отражает мистический опыт всей полноты Церкви, а не только отдельных ее членов. Через созерцание иконы человек приобщается к молитвенному опыту святых и сам учится молиться, а молитва, даже самая простая, в конечном счете и есть богообщение. «Икона – это воплощенная молитва, – говорит архимандрит Зинон. – Она создается в молитве и ради молитвы, движущей силой которой является любовь к Богу, стремление к Нему как совершенной красоте» .
Об этих и многих других смыслах иконы повествует книга И. К. Языковой. Книга обращена к самому широкому читателю и написана понятным для современного человека языком, потому что Благая весть, выраженная в иконе, предназначена не для узкого круга богословов, а для всего человечества. Задача Церкви во все времена одна – донести Слово о Боге, весть о спасении, правду о Христе до всех и каждого.
Второе издание книги напоминает о том, что наш сегодняшний мир ищет выход из тех духовных проблем и тупиков, которые принято обозначать словом «постмодерн». В трудные времена человек ищет ответа на свои вопросы, но они часто лежат за пределами этого мира, который, по слову Апостола, «во зле лежит» (1 Ин 5:19). Икона, будучи окном в мир иной, может помочь нашим современникам понять самих себя и свое предназначение в мире. Каждая икона несет в себе мощный нравственный заряд, напоминая современному человеку о том, что помимо того мира, в котором он живет, есть еще иной мир; помимо ценностей, проповедуемых безрелигиозным гуманизмом, есть еще иные духовные ценности; помимо тех нравственных стандартов, которые устанавливает секулярное общество, есть еще иные нормы. Открывая мир иконы, читатель, даже самый неискушенный в богословских вопросах, откроет для себя мир любви, красоты, святости, а значит, увидит тот свет, который способен преобразить и его самого.
Иларион,
митрополит Волоколамский,
доктор философии, председатель ОВЦС
Введение
Икона является неотъемлемой частью православной традиции. Без икон невозможно представить интерьер православного храма. В доме православного человека иконы всегда занимают видное место. Отправляясь в путь, православный христианин по обычаю берет с собой небольшой походный иконостас, или складень. Так на Руси повелось издавна: рождался человек или умирал, вступал в брак или начинал какое-то важное дело – его сопровождал иконописный образ. Вся история России прошла под знаком иконы, многие прославленные и чудотворные иконы стали свидетелями и участниками важнейших исторических перемен в ее судьбе. Сама Россия, восприняв некогда крещение от греков, унаследовала великую традицию восточно-христианского мира, который по праву гордится богатством и разнообразием иконописных школ Византии, Балкан, христианского Востока. И в этот великолепный венец Русь вплела свою золотую нить.
Иконописное богатство нередко становится поводом к превозношению православных над другими христианами, чей исторический опыт не сохранил традицию во всей ее чистоте или отверг икону как элемент культовой практики. Однако зачастую современный православный человек свою апологию иконы не простирает дальше слепой защиты традиции, расплывчатых рассуждений о красоте божественного мира и оказывается несостоятельным наследником принадлежащего ему богатства. К тому же заполонившая наши храмы иконная продукция низкого художественного качества мало напоминает то, что называется иконой в святоотеческой традиции. Все это свидетельствует о забвении иконы и ее подлинной ценности. Речь идет не столько об эстетических принципах, они, как известно, изменялись в течение веков и зависели от региональных и национальных традиций, сколько о смысле иконы, поскольку образ является одним из ключевых понятий православного мировоззрения. Ведь не случайно победа иконопочитателей над иконоборцами, окончательно утвержденная в 843 году, вошла в историю как праздник Торжества православия. Догмат об иконопочитании стал своего рода апогеем догматического творчества святых отцов. Этим была поставлена точка в догматических спорах, сотрясавших Церковь с IV по IX века.
Что же так ревностно защищали почитатели икон? Не только красоту, но и правду. Они защищали возможность предстоять пред Богом лицом к лицу. Отголоски этой борьбы мы можем наблюдать и сегодня в спорах представителей исторических церквей с апологетами молодых христианских течений, воюющих с явными и мнимыми проявлениями идолопоклонства и язычества в христианстве. Открытие иконы в начале XX века заставило взглянуть по-новому как сторонников, так и противников иконопочитания на предмет спора. Богословское осмысление феномена иконы, длящееся по сей день, помогает выявить неведомые ранее глубинные пласты божественного Откровения и святоотеческого предания.
В последнее время все большее число христиан оценивают икону как общее духовное наследие. Именно древняя икона воспринимается как актуальное откровение, необходимое современному человеку. Икона как духовный феномен все сильнее привлекает к себе внимание, причем не только в православном мире, но и в католическом и даже в протестантском.
Настоящая книга – это второе и дополненное издание курса лекций, прочитанного во многих учебных заведениях, духовных и светских, в России и за рубежом. Книга призвана ввести слушателей в сложный и многозначный мир иконы, раскрыть значение иконы как духовного явления, глубоко укорененного в христианском, библейском мировоззрении, показать ее неразрывную связь с догматическим и богословским творчеством, литургической жизнью Церкви.
Глава 1
Икона с точки зрения христианского мировоззрения и библейской антропологии
И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.
Человеку свойственно ценить прекрасное. Душа человека нуждается в красоте и взыскует ее. Вся человеческая культура пронизана поиском красоты. Библия также свидетельствует, что в основе мира лежала красота и человек изначально был ей причастен. Изгнание из рая привело к утрате красоты, разрыву человека с красотой и истиной. Однажды потеряв свое наследие, человек жаждет его вернуть, вновь обрести. Человеческая история может быть представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой, на этом пути человек осознает себя участником Божественного созидания мира. Выйдя из прекрасного Эдемского сада, символизирующего его чистое природное состояние до грехопадения, человек возвращается в город-сад – Небесный Иерусалим, «новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» (Откр 21:2). И этот образ последней книги Библии есть образ будущей красоты, о которой сказано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор 2:9).
Все Божье творение изначально прекрасно. Бог любовался своим творением на разных этапах его создания. «И увидел Бог, что это хорошо» – эти слова повторяются в 1-й главе Книги Бытия семь раз, и в них явно ощутим эстетический характер. С этого начинается Библия. И заканчивается она откровением о красоте – о новом небе и новой земле (Откр 21:1). Мир задуман Богом прекрасно. Апостол Иоанн говорит, что «мир лежит во зле» (1 Ин 5:19), подчеркивая тем самым, что мир (то есть творение) не есть зло сам по себе, Бог не сотворил зло, но оно войдя в мир, исказило его красоту. И в конце времен воссияет истинная красота Божественного творения – совершенная, искупленная, преображенная.
Понятие красоты включает в себя всегда понятия гармонии, совершенства, чистоты, а для христианского мировоззрения в этот ряд непременно включено и добро. По-славянски «доброта» означает «красота» и «добро» одновременно. Разделение этики и эстетики произошло уже в Новое время, когда культура подверглась секуляризации и цельность христианского взгляда на мир была утрачена. Пушкинский вопрос о совместимости гения и злодейства родился уже в расколотом мире, для которого христианские ценности не очевидны. Век спустя этот вопрос звучит уже как утверждение: «эстетика безобразного», «театр абсурда», «гармония разрушения», «культ насилия» и т. д. – вот эстетические координаты, определявшие во многом культуру XX века. А в XXI все это только усугубляется. Разрыв эстетических идеалов с этическими корнями приводит не только к анти-эстетике, но и прямо к сатанизму. Однако и среди распада человеческая душа не перестает стремиться к красоте. Знаменитая чеховская сентенция «в человеке все должно быть прекрасно…» есть не что иное, как ностальгия по целостности христианского понимания красоты и единства образа. Тупики и трагедии современных поисков прекрасного заключены в полной утрате ценностных ориентиров, в забвении источников красоты.
Красота в христианском понимании – категория онтологическая, она неразрывно связана со смыслом бытия. Красота укоренена в Боге. Библия учит, что существует только одна красота – Красота Истинная, сам Бог. И всякая красота земная есть только образ, в большей или меньшей степени отражающий Первоисточник.
«В начале было Слово… все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин 1:1–3). Слово, Неизреченный Логос, Разум, Смысл и т. д. – у этого понятия огромный синонимический ряд. В этом же ряду находит свое место и слово «образ», без которого невозможно постичь истинный смысл красоты. Слово и Образ имеют один источник, в своей онтологической глубине они едины.
Образ по-гречески – εἰκών (ейкон), от этого слова происходит и русское «икона». Но как мы различаем Слово и слова, так же следует различать Образ и образы, в более узком смысле – иконы (в русском просторечии не случайно сохранилось название икон – «образа»). Без понимания смысла Образа нам не понять и смысла иконы, ее места, ее роли, ее значения.
Бог творит мир посредством Слова, Он и есть Слово, пришедшее в мир, то есть обретшее Образ. Бог творит мир, давая всему образ, не случайно по-русски это значит – образует мир. Сам Он, не имеющий образа, есть Прообраз всего на свете. Все существующее в мире существует благодаря тому, что несет в себе образ Божий. Русское слово «безобразный», синоним слова «некрасивый», значит не что иное, как «без-образный», то есть не имеющий в себе образа Божьего, несущностный, несуществующий, мертвый. Весь мир пронизан Словом, и весь мир наполнен Образом Божьим, можно сказать: наш мир иконологичен.
Все Божье творение можно представить как лестницу образов, которые наподобие зеркал отражают друг друга и в конечном итоге отражают Бога, как Первообраз и Прообраз всего. Символ лестницы (в древнерусском варианте – «лествицы») традиционен для христианской картины мира, начиная от лествицы Иакова (Быт 28:12) и до «Райской лествицы» Иоанна, Синайского игумена, прозванного «Лествичником». Символ зеркала также хорошо известен – его мы встречаем, например, у апостола Павла, который говорит о познании: «Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор 13:12), что в греческом тексте выражено: «как зеркалом в гадании». Итак, наше познание напоминает не слишком четкое зеркало, смутно отражающее истинные ценности, о которых мы только догадываемся. А Божий мир – это целая система образов-зеркал, выстроенных в виде лестницы, каждая ступень которой в свою меру отражает Бога. В основе всего – Сам Бог, Единый, Безначальный, Непостижимый, не имеющий образа, дающий всему жизнь. Он есть все и в Нем все, и нет никого, кто мог бы посмотреть на Бога извне. Непостижимость Бога стала основой для заповеди, запрещающей изображать Его (Исх 20:4). Трансцендентность Бога, открывшегося человеку в Ветхом Завете, превосходит человеческие возможности восприятия, поэтому Библия говорит: «Человек не может увидеть Бога и остаться в живых» (Исх 33:20). Даже Моисей, величайший из пророков, общавшийся с Сущим непосредственно, не раз слышавший Его голос, когда попросил показать ему лицо Бога, получил следующий ответ: «Ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видно» (Исх 33:23).
Евангелист Иоанн также свидетельствует: «Бога не видел никто никогда» (Ин 1:18а), но далее добавляет: «Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин 1:186). Здесь – центр новозаветного откровения: Бог приходит в мир, спускается с небес на землю, связывает их. Через Иисуса Христа мы имеем прямой доступ к Богу, в Нем мы можем видеть лицо Бога, которого прежде не могли видеть. «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его» (Ин 1:14). Иисус Христос, Единородный Сын Божий, воплощенное Слово есть единственный и истинный Образ Отца – Бога Невидимого. В определенном смысле Иисус Христос есть первая и единственная икона. Апостол Павел так и пишет: «Он есть образ (греч. εικόν) Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол 1:15), и «будучи образом Божиим, Он принял образ раба» (Флп 2:6–7). Явление Бога в мир происходит через Его умаление, кенозис (греч. κένωσις). И на каждой ступени бытия происходит свое раскрытие образа, отражающего Первообраз, благодаря этому выстраивается внутренняя структура мира. Христос как образ Бога – вторая ступень нарисованной нами лестницы.
Следующая ступень – человек. Бог создал человека по образу и подобию своему (Быт 1:26–27), выделив тем самым его из всего творения. И в этом смысле человек – также икона Божья. Вернее, он задуман так и призван стать таковым. Спаситель говорил ученикам: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф 5:48). В этом истинное человеческое достоинство, открытое людям Христом. Но вследствие грехопадения, отпав от источника Бытия, человек в своем естественном природном состоянии не отражает Бога, как чистое зеркало, не является совершенным образом, он действительно как замутненное стекло, через которое не проходит свет. Для достижения совершенства человеку необходимо прикладывать усилия (Мф 11:12), преодолевать сопротивление своей падшей природы, стремиться вверх. Слово Божье напоминает человеку о его изначальном призвании. Об этом свидетельствует и Образ, явленный в иконе. В обыденной жизни часто бывает непросто найти этому подтверждение. Оглянувшись вокруг и нелицеприятно посмотрев на самого себя, человек может не сразу рассмотреть образ Божий в ближних и в себе. Тем не менее он есть в каждом человеке. Образ Божий может быть не проявлен, скрыт, замутнен, даже искажен, но он существует в самой нашей глубине как залог нашего бытия.
Процесс духовного становления в том и состоит, чтобы открыть в себе образ Божий, выявить, очистить, восстановить его. Во многом это напоминает реставрацию иконы, когда почерневшую, закопченную доску промывают, расчищают, снимая слой за слоем старую потемневшую олифу, многочисленные позднейшие наслоения и записи, пока в конце концов не проступит Лик, не воссияет Свет, не проявится Образ. Апостол Павел (задолго до того, как сформировались каноны иконописания) пишет своим ученикам: «Дети мои! для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос!» (Гал 4:19). Именно так христианская аскетика понимает высшее искусство. Евангелие учит, что целью человека является не просто самосовершенствование, как развитие его естественных способностей и природных качеств, но раскрытие в себе истинного Образа Божьего, достижение Божьего подобия, того, что святые отцы назвали «обожением» (греч. θεόσις). Процесс этот труден; по словам Павла, это муки рождения, потому что образ и подобие в нас разделены: Бог задумал создать человека по образу и подобию (Быт 1:26), а создал только по образу (Быт 1:27), так что образ нам дан, а подобие задано. Образ каждый получает при рождении, а подобия достигаем мы в течение жизни. Вот почему в русской традиции святых называют «преподобными», то есть достигшими подобия Божьего. Этого звания удостаиваются величайшие святые подвижники, такие, как Сергий Радонежский или Серафим Саровский. И в то же время это та цель, которая стоит перед каждым христианином. Не случайно св. Василий Великий говорил, что «христианство – это уподобление Богу в той мере, в которой это возможно для природы человеческой».
Процесс «обожения», духовного преображения человека христоцентричен, так как основан на уподоблении Христу. Даже следование примеру любого святого замыкается не на нем, а ведет прежде всего ко Христу. «Подражайте мне, как я Христу», – говорит апостол Павел (1 Кор 4:16). Так и любая икона изначально христоцентрична, кто бы ни был на ней изображен: Сам ли Спаситель, который явил нам Отца (Ин 14:9), Богородица ли, через которую Христос воплотился, или кто-либо из святых, в ком просиял Христос. Христоцентричны и сюжетные иконы, прежде всего праздничные иконы, потому что изображают событие, в котором прославился Христос. Именно потому, что нам дан единственный истинный Образ и образец для подражания – Иисус Христос, Сын Божий, Воплощенное Слово. Этот образ должен прославиться и воссиять в каждом человеке: «Все же мы, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор 3:18).
Человек живет на грани двух миров: выше человека – мир божественный, ниже – мир природный, от того, куда развернуто зеркало его души, вверх или вниз, будет зависеть, чей образ он воспримет. После грехопадения внимание человека стало сосредоточенным на твари, а поклонение Творцу отошло на второй план. Беда языческого мира и вина культуры Нового времени состоят не в том, что люди не знают Бога, а в том, что «познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих… и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся… заменили истину ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца» (1 Кор 1:21–25).
Человек – тварное существо и живет внутри тварного мира. И этот мир также отражает в свою меру образ Божий, как любое творение, которое несет на себе печать создавшего его. Это еще одна ступень исследуемой нами лестницы. Однако образ Божий виден в этом мире только при соблюдении правильной иерархии ценностей, как через бинокль при наведении правильного фокуса видны удаленные от глаз предметы. И тварный мир свидетельствует о Боге. Не случайно святые отцы говорили, что Бог дал человеку для познания две книги – Книгу Писания и Книгу творения, первая открывает нам милость Спасителя, вторая – мудрость Творца. Книгу творения мы читаем посредством «рассматривания творений» (Рим 1:20). Этот так называемый уровень естественного откровения, и он был доступен миру и до Христа. Но в творении образ Божий умален еще более, чем в человеке, так как грех вошел в мир и мир во зле лежит. Каждая нижележащая ступень отражает не только Первообраз, но и предыдущую, на этом фоне очень хорошо видна роль человека, так как «тварь покорилась не добровольно» и «ожидает спасения сынов Божиих» (Рим 8:19–20). Человек, поправший в себе образ Божий, искажает этот образ во всем творении. Все экологические проблемы современного мира проистекают отсюда. Их решение тесным образом связано с внутренним преображением самого человека. Откровение о новом небе и новой земле открывает тайну будущего творения, ибо «проходит образ мира сего» (1 Кор 7:31). Но однажды через творение воссияет Образ Творца во всей красоте и свете. Русскому поэту Ф. И. Тютчеву эта перспектива виделась так:
Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое вокруг покроют воды
И Божий Лик отобразится в них.
И наконец, последняя, пятая ступень начертанной нами лестницы – собственно икона, а шире – творение человеческих рук, всякое человеческое творчество. В идеале все человеческое творчество иконологично, должно стать зеркалом славы Божьей. Сегодня на это может претендовать только икона. Но и она становится таковой, только будучи включенной в систему описанных нами образов-зеркал, отражающих Первообраз; в этом случае икона перестает быть просто доской с написанными на ней сюжетами, а становится окном в горний мир. Вне этой лестницы икона непонятна, она не выполняет своего предназначения, даже если она написана с соблюдением всех канонов. Непонимание этой духовной иерархии приводит к искажениям в иконопочитании: одни уклоняются в магию, грубое идолопоклонство, другие впадают в искусствопочитание, изощренный эстетизм, третьи воспринимают икону просто как дань традиции, не вникая в ее содержание. Цель иконы – направить наше внимание к Первообразу – через единственный Образ Воплощенного Сына Божия – к Богу Невидимому. На этом пути мы обнаруживаем Образ Божий в нас самих, начинаем видеть Божий замысел в мире и в нашей жизни, и тогда в наших делах прославляется Господь и в обыденной реальности проступают черты Царства Божьего, которое, по слову Спасителя, среди нас.
Но понимать смысл иконы и почитать иконописный образ не одно и то же. Здесь многим видится камень преткновения. Но, как подчеркивали отцы-иконопочитатели, почитая икону, мы воздаем честь не доске и краскам, а Тому, Кто нарисован красками на этой доске. Почитание иконы есть поклонение Первообразу, молитва перед иконой есть предстояние Непостижимому и Живому Богу. Икона есть знак Его присутствия. Она ни в коем случае не заменяет Живого Бога и не претендует на полное раскрытие тайны будущего века. Эстетика иконы – лишь малое приближение к нетленной красоте Царства Божьего, словно едва проступающий контур, не совсем ясные тени и знаки; созерцающий икону похож на постепенно прозревающего человека, который исцеляется Христом (Мк 8:24). Вот почему о. Павел Флоренский утверждал, что икона всегда либо больше, либо меньше произведения искусства. Здесь решающее значение имеет внутренний духовный опыт предстоящего. Если человек готов слышать – Бог говорит, если человек готов видеть – Образ ему будет явлен.
Человек пишет икону, прозревая истинный Образ Божий, но и икона создает человека, напоминая ему об образе Божьем, в нем сокрытом. Человек через икону пытается вглядеться в Божий Лик, но и Бог смотрит на нас через иконный образ. Икона нас учит предстоянию перед Богом лицом к лицу. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.<…> Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, но тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор 13:9,10,12). Условный язык иконы является отражением неполноты наших знаний о божественной реальности. И в то же время – это знак, указывающий на существование абсолютной красоты, которая сокрыта в Боге. Знаменитое изречение Достоевского «Красота спасет мир» не просто удачная метафора, но точная и глубокая интуиция христианина, воспитанного на тысячелетней православной традиции поисков этой красоты. Бог есть истинная Красота, и потому спасение не может быть некрасивым, без-образным. Библейский образ страдающего Мессии, в котором нет «ни вида, ни величия» (Ис 53:2), только подчеркивает сказанное выше, обнаруживая ту точку, в которой умаление Бога, а вместе с тем и умаление Его Образа и Его Красоты, доходит до предела. Но из этой же точки начинается восхождение вверх, восстановление нового Образа и новой Красоты во всем творении. Ведь смерть и воскресение Христа в православной традиции мыслится как сошествие в ад, которое есть разрушение ада (как предела всяческого без-образия) и выведение всех верных в воскресение и жизнь вечную, в Царство Божие, из тьмы – в истинный и вечный свет. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин 1:5) – вот образ истинной божественной и спасительной красоты.
Одно из величайших открытий XX века, и в плане художественном, и в плане духовном, - православная икона. Напомним, что «открытие» это произошло в канун исторических потрясений: первой мировой войны и последовавших революций и войн, в преддверии «целого грозового периода всемирной истории, который явит миру ужасы, доселе невиданные и неслыханные», - писал в 1916 году Е. Трубецкой. Именно в этот «грозовой период» икона открывается как одно из величайших сокровищ мирового искусства, для одних как наследие далекого прошлого, для других как предмет эстетического любования; третьих же «открытие» это толкнуло к осмыслению иконы, в свете ее, к осмыслению происходящих событий. И нужно думать, что долгий процесс ее постепенного «открытия» провиденциально стягивается к этому времени. Если в забвении иконы сказался глубокий духовный упадок, то вызванное катастрофами и потрясениями духовное пробуждение толкает к возвращению к ней, к пониманию ее языка и смысла, приближает к ней, заставляет ее почувствовать: она уже не только открывается как прошлое, но и оживает как настоящее. Для ее характеристики находятся уже совершенно иные слова. Начинается медленное проникновение в духовный смысл древней иконы. В ней открыли дух, неизмеримо более высокий, чем свой собственный, благоприобретенный в «просвещении». Она воспринимается уже не только как художественная или культурная ценность, но и как художественное откровение духовного опыта - «умозрение в красках», явленное также в годы смятений и катастроф. Именно в эти дни скорби современные потрясения начинают пониматься в свете духовной силы иконы и осмысляться ею. «Немая в течение многих веков, икона заговорила с нами тем самым языком, каким она говорила с отдаленными нашими предками».
И «опять удивительное совпадение между судьбами древней иконы и судьбами Русской Церкви. И в жизни, и в живописи происходит одно и то же: и тут, и там потемневший лик освобождается от вековых наслоений золота, копоти неумелой, безвкусной записи. Тот образ мирообъемлющего храма, который воссиял перед нами в очищенной иконе, теперь чудесно возрождается и в жизни Церкви. В жизни, как и в живописи, мы видим все тот же неповрежденный, нетронутый веками образ Церкви Соборной». Однако эти судьбы Русской Церкви, выведя ее из «мирского великолепия» и «благополучия», направили ее на крестный путь испытаний.
С установлением советской власти внедряется новое мировоззрение, порожденное той же расцерковленной культурой, но сбросившей личину христианства. Мировоззрени? это становится государственным. В глазах государства все верования, в том числе и Церковь, сводятся к общему понятию «религии», и «религия» эта воспринимается как «реакционная идеология», «обман», «опиум для народа». Эта последняя формула «есть краеугольный камень марксистского взгляда на религию». Церковь рассматривается как инородное тело в государстве, чуждое ему, как носительница враждебного ему мировоззрения. Государство берет на себя заботу не только о материальном благополучии народа, но и о воспитании его, «формировании нового человека» . С одной стороны, «...советское законодательство о свободе совести проникнуто духом обеспечения права гражданам исповедовать любую религию или не исповедовать никакой»; а с другой стороны, «бескомпромиссная борьба против религиозных взглядов, несовместимых с материалистическим мировоззрением, социальным и научно-техническим прогрессом, является важнейшей предпосылкой и решающим условием формирования нового человека». Итак, борьба с религией ведется во имя принципа свободы совести, и свобода эта осуществляется рядом запрещений. В частности, всякое ознакомление с религией вне богослужения воспрещается, как религиозная пропаганда, и «преподавание вероучений [...] в церквах, молитвенных и частных домах лицам, которые еще не достигли 18-летнего возраста, запрещается».
И в Церкви, и в иконе идет процесс очищения: от Церкви отпадает все то, что было связано с ней обязательной обрядовой повинностью. Отметается также и все то, что наслаивалось на икону. Исчезает и механическое производство, с которым не могли справиться, как мы видели, ни деятели Комитета, ни даже сам император. Ликвидируются и иконописные предприятия заводского и кустарного типа.
Поскольку религия понимается как отжившее прошлое, которому нет места в новом обществе, все то, что создано в этом прошлом, принимается лишь как культурное наследие и только в качестве такового подлежит сохранению и изучению. Все, что сохранилось в храмах, в том числе иконы, становится государственной собственностью, и уже в 1918 году государство берет его под свою опеку. Открываются государственные реставрационные мастерские, национализируются частные собрания икон, организуются выставки. А в то же время враждебное отношение господствующего мировоззрения к Церкви охватывает и все то, что к ней относится, в том числе и икону. И если в XVIII-XIX веках вандализм происходил от равнодушия и непонимания, то теперь массовое уничтожение храмов и икон происходит уже по идеологическим причинам. Работа иконописца становится с точки зрения господствующей идеологии не только бесполезной, но и вредной для общества.
После веков забвения и отступления от иконы, она, с одной стороны, подвергается уничтожению, с другой же стороны, ее открытие выходит далеко за пределы Православия, в тот самый мир, иноверие и культура которого явились причиной отхода от нее просвещенного общества и ее забвения в самом Православии. Колоссальная работа, проделанная реставраторами, вернувшими к жизни древнюю икону, сопровождается в настоящее время небывалым до сих пор количеством иллюстрированных публикаций на разных языках, научных и богословских, православных авторов, инославных и атеистов. И проникновение самой иконы в мир западной культуры идет с необычайным размахом путем массового вывоза икон из православных стран, появления их в музеях, распространения частных собраний и постоянных выставок в разных городах западного мира. Православная икона притягивает и верующих, и неверующих. Интерес к ней отличается крайним разнообразием: увлечение стариной или вообще собирательством, главное же - тяга к иконе в плане религиозном, стремление понять ее, а через нее понять и Православие. «Для нашей, сильно визуально ориентированной эпохи, - пишет Е. Бенц, - рекомендуется [...] обращение к глазу, к смотрению на образ. Этот путь к пониманию Восточной Православной Церкви тем более подходящий, что в ней образное показание мира святых, икона, занимает центральное место». И далее: «Значение иконы для православного благочестия и богословское ее обоснование открывает путь к самым важным пунктам православной догматики. Потому что понятие иконы есть понятие догматически центральное, возвращающееся во всех аспектах богословия». В глазах рядовых верующих инославных икона воспринимается осознанно как свидетельство Православия или как выражение в искусстве, вне осознанного конфессионального контекста, подлинного христианства в практическом молитвенном плане: в противовес искажению этой стороны в римокатолическом образе икона «побуждает к молитве». «В иконах каждый найдет покой своей душе; они бесконечно много могут сказать нам, западным, и могут и в нас произвести святое обращение к сверхприродному». Здесь грани времени стираются, и интерес проявляется к иконе древней наравне с поздней и даже современной, пусть в большинстве своем эклектического характера, но все же не отступающей от канонического строя. Потому что православная икона - единственное в мире искусство, которое на любом художественном уровне, даже ремесленном, несет откровение непреходящего смысла жизни, потребность в котором пробуждается в современном мире.
Именно в этом плане вопрос иконы поднят в более официальном порядке представителями англиканского исповедания в связи с отношением к Седьмому Вселенскому Собору. При встрече с православными в Рымнике (Румыния) в июле 1974 года вопрос был поставлен англиканами в своем подлинном богословском контексте. При этом была высказана надежда, что догмат иконопочитания будет выражен православными в применении к современной действительности, так как «более глубокое понимание принципов иконописания, являющих истину и последствия воплощения Слова Божия, может в наши дни помочь христианам правильнее оценить христианское учение о человеке и материальном мире».
Сама эта постановка вопроса свидетельствует о том, что в нашу «визуально ориентированную эпоху» назрела настоятельная необходимость, как для инославных, так и для самих православных, вникнуть в суть догмата иконопочитания и в его значение для современного христианства. На Западе догмат Седьмого Собора никогда не проникал в церковное сознание, а в самом Православии, за время упадка иконы и утери осмысления ее богословского содержания, понимание его притупилось и капитальное значение как бы выветрилось. Ведь целые поколения православных воспитывались на искусстве, которое, прикрываясь догматом иконопочитания, на самом деле никак ему не соответствовало. Напомним еще раз, что уже в XVII веке из Синодика Торжества Православия было исключено все вероучебное содержание образа. И в наше время в день Торжества Православия можно лишь в виде исключения услышать в проповеди о связи этого праздника с иконой. В догмате иконопочитания соборное сознание Церкви осудило отказ от образа, как христианскую ересь, и образ сохранил свое место в церковной жизни; однако его жизненное значение перестало восприниматься во всей присущей ему полноте, и это породило безразличие к его содержанию и роли.
В наше время вникнуть в суть догмата иконопочитания - значит осмыслить и саму икону не только как предмет молитвы и украшение храма; это значит осмыслить то, что она несет в себе, уяснить ее созвучие современному человеку, осмыслить свидетельство духовного опыта, передаваемого из глубины Православия, непреходящее значение христианского откровения.
А между тем не только в инославии, но и в православной среде приходится сталкиваться со взглядом, который, даже в тех случаях, когда он вполне благонамерен, направляет понимание иконы на ложный путь. Сводится он к следующему: Седьмой Вселенский Собор, явивший догмат иконопочитания, не определил характера образа и в «богословии защитников иконопочитания не содержится догматизации стиля». Другими словами, Церковь не канонизировала никакого стиля или рода искусства. Для человека современной культуры, у которого часто нет ясного сознания Церкви, такой взгляд дает повод полагать и даже утверждать, что, помимо канонической иконы, якобы связанной с определенной эпохой и культурой, в Церкви могут существовать и другие роды или стили искусства, отражающие другие эпохи.
Такому отношению в значительной мере содействует современное искусствоведение. Наука вынесла приговор: иконопись, продукт средневековья с его отжившим мировоззрением, кончилась в XVII веке. Исчезла средневековая культура, а вместе с нею ушла в прошлое и икона. Эта позиция, вопреки очевидности, является основной в современной науке, которая, как и наука XIX века, видит в иконе известный этап культурного развития (византийский, русский...). При этом курьезно: новое мировоззрение считается другим, ломающим отжившее старое, а новое искусство, порожденное этим новым мировоззрением, непонятным образом считается развитием старого, из которого оно якобы исходит в порядке преемственности. Свободная от догматов наука, введя икону в поток общемирового искусства, закрепила ее творчество за областью культуры и оторвала ее от Церкви. Нужно сказать, что уже в век просвещения и Церковь поддалась внушению, что художественное творчество - не ее стихия, и покорно с этим согласилась, предав искусство светской культуре. Но ведь в течение трех веков икона выжила и продолжает жить, конечно, не из-за приверженности к средневековой культуре, а именно как выражение веры.
В течение веков Церковь была созидательницей и носительницей культуры. Поскольку богословие господствовало во всех областях жизни, вера была всеобщим достоянием, и вся жизнь людей осмыслялась и направлялась этой верой. Искусство и было выражением этой веры, то есть того откровения, которое несет Церковь и которое формировало соответствующее ему мировоззрение, порождая культуру церковную. Откровение и теперь осталось тем же; той же осталась и наша вера. Продолжает существовать и церковная культура. Но то, что содержит икона, то, что она несет, не зависит от культуры даже церковной. Культура дает лишь средства выражения, раскрывающие соответствие иконы Евангелию. В этом смысле характерно, что Орос Седьмого Собора в заключение ставит в один и тот же план «будь то Евангелие, или изображение Креста, или иконная живопись, или святые останки мучеников». Ведь ни Евангелие, ни Крест, ни мощи святых никакого отношения к культуре не имеют. Следовательно, и иконная живопись рассматривается как священное достояние, выработанное в глубинах кафолического Предания Церкви: «Иконописание [...] есть одобренное законоположение и предание Кафолической Церкви, ибо знаем, что она - Духа Святого, живущего в ней» (Орос). И в период иконоборчества кровавая борьба шла ведь не только за право изображать Бога и святых, а за тот образ, который несет и являет истину, то есть именно за определенный стиль искусства, выражающий соответствие Евангелию, подобно тому как за ту же истину исповедники шли на мучения ради слов, ее выражающих. Изначала вырабатываемый Церковью художественный язык иконы становится достоянием христианских народов, вне каких-либо национальных, социальных или культурных границ потому, что единство его достигается не общностью культуры и не административными мерами, а общностью веры и мировоззрения. Во времена Седьмого Собора художественный язык Церкви был тем же самым, что и позже, хотя еще и недостаточно очищенным и целенаправленным. Стиль иконы был достоянием всего христианского мира на протяжении 1000 лет его истории, как на Востоке, так и на Западе: другого стиля не было. И весь путь его есть лишь раскрытие и уточнение его художественного языка, или же, наоборот: его спад и отступление от него. Потому, что сам этот стиль и чистота его обуславливается Православием, более или менее целостным усвоением Откровения. И язык этот, естественно, подвержен изменениям, но изменениям внутри иконного стиля, как мы видим это на протяжении почти двухтысячелетней его истории.
Отношение к иконе как к наследию прошлого и лишь одной из возможных форм искусства в Церкви в значительной мере способствует тому, что для большинства верующих, духовенства и епископата никакого открытия ее, собственно, не произошло. Правда, нужно сказать, что открывать фактически было нечего с церковной точки зрения: иконы были в церквах (хотя в большинстве и записанные, но были и есть также и не записанные) и перед ними молились люди - так что вернее в данном случае говорить об обращении к иконе. Почитание иконы сохранилось. Сохранилось и ее место в богослужении и церковной жизни. Но вероучебная сторона иконы, то есть православное соотношение между образом и вероучением, выраженное в соборных определениях, святоотеческих писаниях и богослужении, исчезло из церковного сознания. Поэтому учение Церкви применяется к любому образу религиозного сюжета. Такое отношение к иконе, свойственное XVII, XVIII и XIX векам, застыло в своей неприкосновенности подобно тому, как застыла в старообрядчестве другая эпоха. Сам образ в его православном облике привыкли не видеть и даже им не интересоваться. И обращение к этому образу после веков упадка происходит, как это ни парадоксально, особенно медленно, повторяем, именно в среде церковной. И сама по себе медленность этого обращения к смыслу и содержанию иконы свидетельствует о глубине отрыва от нее. «А пока психологических и прочих пособий к Православию люди верующие и принадлежащие к Церкви старательно разыскивают и сопереживают у Эль Греко, Чехова и еще кого угодно. Лишь бы не сосредоточиваться на церковной полноте. Причем вполне добросовестно это сознают. Но что тут удивительного, когда еще совсем недавно глаза людей были просто полностью закрыты на церковное искусство» (из частного письма из России). «Лишь бы не сосредоточиваться на церковной полноте» - вот в чем дело. Одной из основных причин нечувствия иконы как образа Откровения, и притом Откровения, жизненно воспринятого, является столь же глубокое нечувствие и непонимание Церкви. Для многих и сама Церковь является одной из культурных ценностей (или еще духовных ценностей); она - своего рода привесок к культуре и должна оправдывать свое существование как стимул художественной деятельности, фактор в достижении социальной справедливости и т.д. Другими словами, здесь то же искушение о «Царстве Израилеве», которому подпали Апостолы.
Путь современного просвещенного человека к осознанию Церкви тот же, что и к осознанию иконы. И там, и тут те же этапы исканий, заблуждений и, наконец, прозрение (умозрение в красках). Перефразируя протоиерея А. Шмемана, можно сказать, что для того, чтобы почувствовать в иконе нечто большее, чем произведение искусства или предмет личного благочестия, «нужно было в самой Церкви увидеть и почувствовать нечто большее, чем общество верующих».
Верующий человек, даже увлеченный иконой, часто колеблется: он не уверен, что не живописный образ, а именно каноническая икона есть выражение того, во что он верует. Он видит иконы в музеях, и ему представляется, что если храм украшен только иконописью без живописных произведений, то он превращен в музей (это нам приходилось слышать). Более того, для большинства различие между иконой и религиозной картиной часто определяется как разница именно опять-таки в стиле: старое - новое, даже старообрядческое - православное.
Помимо приведенной точки зрения, для которой икона - лишь один из возможных стилей церковного искусства, отметим другую, которая, собственно, является обоснованием первой; она настолько распространена, что нашла отражение в Материалах предсоборного совещания. Подход здесь проникнут вероучебным и пастырским попечением. «Иконопись есть выражение Православия с его догматическим нравственным учением [...], раскрытие жизни во Христе и тайн домостроительства Божия о спасении людей». Трудно сказать вернее. Но дальше: «Живописное реалистическое направление - словесное млеко для простого народа». Такая установка вызывает ряд недоуменных вопросов. Прежде всего непонятно и странно деление церковного народа по культурному признаку. Разве задача Церкви заключается не в раскрытии тайн домостроительства Божия всем своим членам, как культурным, так и некультурным? Ведь Откровение обращено к человеку независимо от его культурного уровня; так же независимо от него и воспринимает он это Откровение и духовно возрастает.
Далее: если иконопись «наиболее полно и исчерпывающе отражает Православие во всей возможной глубине и обширности», то, стало быть, «живописное реалистическое направление» такими свойствами не обладает, то есть не является «раскрытием жизни во Христе», или, во всяком случае, ущербляет его. Значит, «тайны домостроительства Божия о спасении людей» - не для «простого народа»?. Но разве Церковь когда-либо ущербляла или снижала свое учение до понимания того или иного слоя народа, приобщая людей к тайнам спасения в большей или меньшей мере? Ведь живописное реалистическое направление, будучи продуктом автономной культуры, есть выражение автономного же бытия видимого мира по отношению к миру божественному, выражение жизни «по стихиям мира сего», хотя бы даже идеализированной личным благочестием художника. Ограничиваясь человечеством Христа, оно, как и вообще всякое другое искусство, кроме канонической иконы, не может раскрыть жизнь во Христе и указать путь спасения. Ведь путь спасения человека и мира заключается никак не в приятии нынешнего их состояния в качестве нормального и передаче его в искусстве, а в выявлении того, чем падший мир отличается от Божественного о нем замысла, того, в чем заключается спасение человека, а через него и мира. «Ибо если святой (как он изображается в реалистическом направлении) во всем подобен ему самому (то есть верующему), то в чем его сила? Чем он может помочь погруженному в свои заботы и печали человеку?» Автор этих слов, искусствовед, подходя практически, рассуждает в плане простой логики, которая подсказывает правильное решение (хотя в его глазах икона и является «образом легенды», «вымыслом»). Автор понимает разницу содержания и значения иконы и живописного образа вернее, чем многие верующие и духовенство. И нельзя здесь отговариваться тем, что логика - одно, а вера - другое. Икона ведь делается не для Бога, а именно для верующего, и простая логика здесь не помеха. Когда св. Василий Великий говорит, что «кто поднимает лежащего, тому непременно должно находиться выше упавшего», то ведь это тоже простая логика, а относится она именно к духовной жизни. Ведь живописный образ и есть плод того свободного творчества, не связанного догматами Церкви, которого так усиленно добивались новаторы XVII века. Если в плане вероучебном оно не выражает православного учения о спасении, то в плане духовном автономное от Церкви творчество художника, основываясь на его представлении о духовной жизни, то есть на его воображении, может быть и разрушительным. Но здесь предоставим слово лицам, более компетентным в этой области. «Способность воображения, - говорит епископ Игнатий (Брянчанинов), - находится в особенном развитии у людей страстных. Она действует в них соответственно своему настроению, и все священное изменяет в страстное. В этом могут убедить картины, на которых изображены священные лица и события знаменитыми, но страстными художниками.
Эти художники усиливались вообразить и изобразить святость и добродетель во всех видах ее; но преисполненные и пропитанные грехом, они изображали грех, один грех. Утонченное сладострастие дышит из образа, в котором гениальный живописец хотел изобразить неизвестные ему целомудрие и Божественную любовь [...]. Произведениями таких художников восхищаются страстные зрители; но в людях, помазанных духом Евангелия, эти гениальные произведения, как запечатленные богохульством и скверною греха, рождают грусть и отвращение». Художник-творец в современном понимании этого слова, добавляет священник П. Флоренский, «изображая неизвестные ему целомудрие и Божественную любовь», может даже руководствоваться благочестивыми намерениями и чувствами. Но пользуясь лишь полусознательными воспоминаниями об иконе, такие художники «смешивают уставную истину с собственным самочинием, берут на себя ответственнейшее дело св. Отцов, и, не будучи таковыми, самозванствуют и даже лжесвидетельствуют. Иная же современная икона есть провозглашенное в храме всенародно вопиющее лжесвидетельство». И дело здесь не только в личности художника, а в том, что это искусство, заимствованное из римокатоличества и чуждое догматическим предпосылкам и духовному опыту Православия, применяет свои средства выражения к тому, что ими не передаваемо, применяет их в области, где они не применимы. Внедрение этого искусства в Православие было следствием духовного упадка, а не результатом искажения вероучения; по отношению к последнему оно осталось наносным элементом, инородным телом, оторванным от Предания и, следовательно, от духовного наследия исторической Церкви. И вот это искусство, порождение расцерковленной культуры, которое не только не может быть оправдано Седьмым Собором, но вообще выпадает из рамок его определений, предлагалось, под названием млеко, соборно узаконить в Церкви наравне с иконой!
Серьезным аргументом в пользу существования живописного стиля наряду с иконописью является наличие в нем чудотворных изображений. «Оба вида церковного искусства приемлемы для выражения христианских истин в Православии на основе явления чудотворений в обоих видах церковного иконотворчества». Итак, если живописный стиль не выражает полноты истин спасения, то это как бы компенсируется наличием чудотворных изображений. Этот аргумент вызывает вопрос основной и принципиальный: можно ли считать чудеса руководящим принципом в жизни Церкви, будь то в ее целом, или в каком-либо ее проявлении (в данном случае в ее искусстве)? Являются ли здесь чудеса критерием? Вопрос этот, как мы уже отмечали, вставал в XVII веке, но в обратном порядке: чудотворения отвергались как критерий по отношению к канонической иконописи, притом как раз сторонниками нового, реалистического направления в искусстве.
В чуде побеждается естества чин; установленный Богом порядок Им же нарушается для спасения человека. Чудеса бывают по милосердию Божию и в рамках заповедей и канонов, бывают и в нарушение Божественной заповеди и церковных канонов. Бог может творить чудеса и помимо икон, так же как Он и «недостойными действует», как творит чудеса и силами природы. Но чудо, по самому определению своему, не может быть нормой: тем как раз оно и чудо, что выходит из нормы.
Основа всей жизни Церкви - несомненно решающее и все для нее определяющее чудо: воплощение Бога и обожение человека. «Дивное чудо на небе и на земле то, что Бог на земле и человек на небе». Это именно чудо и есть норма жизни Церкви, закрепленная в ее каноне, которая и противопоставляется настоящему состоянию мира. Именно на этом основана и вся богослужебная жизнь Церкви: ее годовой круг определяется этапами и аспектами этого основного чуда, а никак не частными чудесами, даже совершенными Самим Спасителем. Церковь живет не тем, что преходяще и индивидуально, а тем, что неизменно. Не потому ли чудеса никогда не были для нее критерием ни в одной из областей ее жизни и жизнь эта никогда по ним не равнялась?. И не случайно то, что соборные постановления предписывают писать иконы, основываясь не на чудотворных образцах (потому что чудотворение иконы есть внешнее временное, а не постоянное ее проявление), а так, как писали древние иконописцы, то есть по иконописному канону. Это, подчеркиваем, относится к православному каноническому образу, то есть к полноценному выражению «тайн домостроительства Божия о спасении людей».
Что же касается живописного стиля, то как может стать церковным образ, не выражающий учения Церкви, образ, который не несет в себе «раскрытия жизни во Христе», и как же, в силу своего чудотворения, он становится приемлемым для выражения «христианских истин в Православии» и ставится на один уровень с образом, который их выражает? Такой образ, если, конечно, по своему иконографическому сюжету он не содержит противоречия православному вероучению, то есть не еретичествует, может послужить основанием к появлению нового типа канонической иконы (при условии, конечно, подлинности чуда), то есть быть воцерковлен.
В применении к современной действительности догмат иконопочитания имеет значение не только в плане вероучебном, но и в плане внерелигиозном. С одной стороны, ознакомление с Православием и столь характерное для нашего времени возвращение к истокам христианства неизбежно приводит к встрече с образом, иконой, а это значит
- к встрече с изначальной полнотой христианского Откровения словом и образом. С другой же стороны, свидетельство, которое несет православная икона, созвучно проблематике современности потому, что проблематика эта носит ярко выраженный антропологический характер. Центральный вопрос нашего времени - человек, заведенный в тупик возросшим на римокатолической почве секуляризованным гуманизмом.
Разложение культуры и ряд научно-технических революций привели мир к тому, что вопрос ставится уже о сохранении в человеке самой его человечности, более того
- о сохранении самого человечества. Научно-технический прогресс направлен на благо человека, на то, чтобы высвободить его творческую энергию, и прогресс этот отмечен небывалыми до сих пор достижениями. Но в то же время парадоксальным образом в этом мире небывалого развития науки и техники, в мире современных идеологий, также направленных на благо и прогресс человечества, наблюдается непреодолимая тяга к внешнему и внутреннему одичанию; вместо одухотворения животной жизни - к озверению духа.
Человек превращается в орудие производства, и основная ценность его - не в его личности, а в его функции. В повседневной жизни человека господство фальши и эрзаца, дробление, доходящее до разложения во всех областях, приводит человека к потере духовного и физического равновесия, поискам искусственного рая вплоть до наркотиков. «Человечество, которое мы наблюдаем и которое и есть мы, есть человечество сломленное. Оно сломлено прежде всего в каждом из нас [...]. Мы вверх ногами, и нет центра, который бы все это умиротворил. Разделенные внутри самих себя, мы разделены и между собой...» Этот разделенный в самом себе человек оказывается в современном мире мерой всех вещей, и это его возвышение, как отмечает протоиерей А. Шмеман, парадоксальным образом сочетается с умалением самого человека, с искажением его призвания и Божественного замысла о нем. Эпоха антропоцентрична, а человек, ее центр, - мелок и ничтожен. Автономный человек современной, то есть гуманистической, культуры отказался от уподобления своему Первообразу, не принял образа Славы, явленного в униженном теле Христа. И вот с отречения от этого образа неизреченной славы началась наша [...] цивилизация, началась с того, что по богословской аналогии следовало бы назвать вторым грехопадением. Урезав свое человечество, человек нарушил иерархию бытия и тем самым извратил и свою роль по отношению к окружающему миру, подчинив себя, вместо Божественной воли, той материальной природе, над которой он призван господствовать. Отказавшись от Бога Творца, человек, объявив творцом себя, творит себе других богов, более жадных на человеческие жертвы, чем были боги языческие.
В плане духовном явное и скрытое богоборчество вызывает реакцию веры, распад и разложение - поиски единства, фальшь - тяготение к подлинности. В этом мире разложения, когда ставится вопрос, как можно верить, в кого и во что, для чего верить, человек ищет смысла своего существования.
И здесь опять удивительное совпадение между судьбами Православной Церкви и судьбами православной иконы. Если в синодальный период ведущая роль принадлежала Русской Поместной Церкви, связанной с мощным государством, то теперь ни одна из Церквей не находится в таком положении. Бурное развитие расцерковленной культуры привело Церковь к ограничению способов ее воздействия. Но как раз подавленное активным безбожием или иноверием, ослабленное расколами и нестроениями, Православие выходит вовне. В наши дни в порядке миссии на первый план выступает уже не та или иная Поместная Церковь, а Православие как раскрытие перед миром того Откровения, которым является сама Церковь и которое она несет этому миру. Изменяется и сам характер миссии; это уже не только проповедь христианства непросвещенным народам, но, главным образом, противостояние его расцерковленному миру с его разлагающейся культурой. Культуре распада и фальши Православие противопоставляется как ее антитеза, как истина, единство и подлинность потому, что сама природа Церкви, ее соборность, есть противоположение сепаратизму, разобщению, разъединению, индивидуализму.
Христианское Откровение несет капитальный переворот в отношения человека с Богом, с одной стороны, и существующим миропорядком с другой; оно несет восстановление замысла Творца о мире, или иначе - упразднение несоответствия мира Божественному о нем замыслу. «Не суть бо советы Мои, якоже советы ваши, ниже якоже путие ваши путые Мои, глаголет Господь. Но якоже отстоит небо от земли, тако отстоит путь Мой от путей ваших, и помышления ваша от мысли Моея» (Ис. 55:8-9).
Христианство обращено не к той или иной категории людей, классу, обществу, учреждению, национальной или социальной группе; оно не является идеологическим средством для улучшения падшего мира, для устройства «Царствия Божия» на земле. Оно есть откровение Царства Божия не во внешних условиях, а внутри самого человека. «Покайтесь», то есть «обратитесь» - metanoiete - в проповеди Иоанна Предтечи требует отказа от старого пути и восприятия нового, противоположного греховному. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое (2 Кор. 5:17). Вся направленность евангельской проповеди (все притчи о Царствии Божием, Нагорная проповедь и т.д.) находят свое выражение в противопоставлениях путям падшего мира. Евангельская перспектива, как выражение самой сущности христианства, есть изобличение того положения, которое считает естественным царящие в мире распад и разложение. Как реальность, истина и путь спасения, она противопоставляется закону князя мира сего, тому греховному состоянию, которое считается нормальным, понимается как естественное, присущее созданию Божию («такова природа» - обычное оправдание). Но мир, как творение Божие, добро есть; греховность же и тленность, разделение и распад не есть его существо, а состояние, навязанное ему человеком. Поэтому христианство несет не отрицание мира, а наоборот: через человека исцеление его, приведение человеком самого себя и окружающего мира к единению с Творцом. Миру зла, насилия и кровавых смут противопоставляется образ мира, преображенного в Человечестве Христовом, иначе - его осмысление в перспективе его конечного назначения.
И вот в наше время, с выходом Православия в этот перевернутый вверх ногами мир, происходит встреча двух, в корне различных ориентаций человека и его творчества: антропоцентризма секуляризованного, безрелигиозного гуманизма и антропоцентризма христианского. На путях этой встречи одна из главных ролей принадлежит иконе. Главное значение ее открытия в наше время представляется не в том, что ее стали ценить или более или менее правильно понимать, а в том свидетельстве, которое она несет современному человеку: свидетельстве о победе человека над всяким распадом и разложением, свидетельстве иного плана бытия, которое ставит человека в иную перспективу в соотношении его с Творцом, в иную направленность по отношению к лежащему во грехе миру, дает ему иное ведение и видение мира.
Обращаясь к Седьмому Вселенскому Собору, нужно сказать, что, по существу, он не явил ничего нового; он лишь запечатлел изначальное значение христианского образа. Здесь мы лишь вкратце отметим те из его основных положений, которые непосредственно соотносятся с различными аспектами современной проблематики.
Как в оросе, так и в своих суждениях Собор связывает икону прежде всего с Евангелием, то есть с богословием в самом первичном его смысле, явленным, по выражению св. Григория Паламы, «Самоистиной Христом, Который Бог сый превечный, стал ради нас и богословом».
Здесь мы прежде всего сталкиваемся с христианским понятием образа и с его значением в богословии, а следовательно, и с его значением в жизни человека, сотворенного по образу Божию. «Поскольку человек словесен, то есть по образу Слова, Логоса, то все, что относится к судьбам человека, - благодать, грех, искупление Словом Божиим, ставшим Человеком, - все должно относиться также к богословию образа. То же можно сказать и о Церкви, о таинствах, о духовной жизни, об освящении, о конечной цели. Нет такой области изучения богословия, которую можно было бы совершенно отделить от проблемы образа, не рискуя отделить ее и от живого древа христианского Предания. Можно сказать, что для всякого богослова кафолической традиции, как на Востоке, так и на Западе, если он верен основным положениям святоотеческого мышления, тема образа (в своем двояком значении: образа как принципа Божественного Откровения и образа как основы отношения человека с Богом) должна быть присуща сущности христианства». «Боговогатощение, которое есть основной догматический факт христианства, связывает богословие и образ настолько тесно, что выражение «богословие образа» представляется почти плеоназмом, при условии, конечно, что богословие понимается как познание Бога в Его Слове, Которое есть единосущный Образ Отчий».
Итак, поскольку в воплощении Слово и Образ Отчий явлен миру в единой Божественной Личности Иисуса Христа, богословие и образ составляют единое словесно-образное выражение явленного Откровения. Другими словами, богословие образное и богословие словесное представляют собой отологическое единство и тем самым единое руководство на путях принятия явленного Откровения человеком, на путях его спасения. Следовательно, образ входит в вероучебную полноту Церкви как одна из основоположных истин Откровения.
Обосновывая икону Боговоплощением, то есть христологическим догматом, Собор упорно и многократно ссылается на существование иконопочитания с апостольских времен, то есть на преемственность апостольского Предания. Правда, современный человек (с его верой не столько в науку, сколько в непогрешимость науки), склонен относиться к этому утверждению скептически, тем более, что ссылки на древность часто служили доказательством подлинности без достаточных оснований. Но в данном случае Отцы Собора основывались не на тех данных, на которых основывается современная нам наука, а на сущности христианства: на явлении в тварном мире «Образа Бога невидимого, перворожденного всей твари» (Кол. 1:15 - чтение в день иконы Нерукотворного Спаса). Когда Бог Слово стал плотию, говорит св. Ириней, «Он явил подлинный образ, поскольку Сам стал тем, что было Его образом [...] и восстановил подобие, уподобив человека невидимому Отцу». Этот Образ Бога невидимого, запечатленный в материи, свидетельство «истинного, а не воображаемого Бога Слова (орос Собора), противостоит, с одной стороны, отсутствию образа Бога в Ветхом Завете, с другой стороны, ложному образу в язычестве - идолу. В противовес этому ложному образу Бога, созданному по образу человека, христианство несет в мир образ Творца, тот закрытый грехопадением Первообраз, по которому создан человек. Этот образ живет в Предании, которое «есть внутренняя, харизматическая или мистическая память Церкви. Оно есть прежде всего «единтво духа», - живая и непрерывная связь с таинством Пятидесятницы, с таинством Сионской горницы» Отсюда и упорство Отцов Собора в ссылках на апостольское Предание. Поскольку христианское Откровение изначала явлено двойным способом, словом и образом, Собор, «следуя учению св. Отец наших и Преданию Кафолической Церкви» (орос), утверждает изначальное существование образа и не только его необходимость, но естественную, вытекающую из воплощения Божественной Личности принадлежность его христианству. Поэтому и иконоборчество, несмотря на свое также изначальное существование и на противодействие образу, возникавшее на основании ветхозаветного запрета и в спиритуалистических течениях оригенистского направления, натолкнулось на непреодолимое препятствие и послужило лишь выявлению и утверждению истины Откровения.
Для нашего времени важность Седьмого Собора заключается прежде всего в том, что в ответ на открытое иконоборчество, он на все времена явил икону как выражение христианской веры, как неотъемлемую принадлежность Православия. И догмат иконопочитания есть ответ на все ереси (иконоборчество есть «сумма многих ересей и заблуждений», говорит Собор), которыми подрывалась и продолжает подрываться, в явной или скрытой форме, та или иная сторона богочеловечества и само богочеловечество в целом, а тем самым христианская антропология. Догматом иконопочитания Отцы Седьмого Собора ограждают христианскую антропологию, то есть соотношение Бога и человека, явленное в Личности Христа, и полагают центр тяжести не на теоретических построениях, а на конкретном опыте святости. Потому что «если воплощение Бога слова, как осуществление подлинного Человека, есть событие прежде всего антропологическое, то и откровение Духа Святого и Его пребывание в человеке есть также событие антропологическое». Поэтому в победе над иконоборчеством соборное сознание Церкви утвердило икону как торжество Православия, как свидетельство Церкви об откровенной истине, потому что христианская антропология нашла наиболее яркое и непосредственное выражение именно в православной иконе. Ведь именно в ней, являющей «истину и последствия Боговоплощения», наиболее полно и глубоко выражается христианское учение о соотношении Бога и человека, человека и мира. Поэтому исключить образ из христианской антропологии значит не только исключить видимое свидетельство воплощения Бога, но и свидетельство уподобления человека Богу, реальность домостроительства, то есть ущерблять свидетельство Православия об истине.
Поскольку икона есть изображение личности, на которую указывает собственное имя (будь то Божественная Личность Христа или личность человека), то истина иконы обуславливается прежде всего ее подлинностью, подлинностью исторической потому, что «образ есть подобие с отличительными признаками первообраза», и подлинностью харизматической: Бог, неописуемый по Божеству, соединяется «неслиянно и нераздельно» (халкидонский догмат) с описуемым человечеством. Человек свое описуемое человечество соединяет с неописуемым Божеством.
Как мы уже отмечали, образ Личности Христа, как свидетельство воплощения, для апологетов иконопочитания есть тем самым свидетельство и реальности Таинства Евхаристии. Следовательно, подлинность образа и его содержания раскрывается в его соответствии Таинству. Вера Церкви отличается от всех других вер тем, что она конкретно, физически причастна своему объекту. И вера эта в конкретном общении становится видением, знанием, общностью жизни с Ним. Эта общность жизни осуществляется в Евхаристии. Молитва перед Чашей обращена к конкретной Личности потому, что только через обращение к Личности, через общение с Ней, возможно приобщение к тому, что эта Личность несет, что в ней воипостасировано. И само это обращение требует образа потому, что относится не к некоему воображаемому Христу, не к отвлеченному Божеству, а именно к Личности: «Ты еси воистину Христос сие есть Тело Твое » В Евхаристии хлеб и вино прелагаются Духом Святым в Божественное Тело и Кровь Христа воскресшего и прославленного (христианство не знает никакого духовного воскресения вне тела), спасение произошло и происходит через тело «Сама Евхаристия является нашим спасением именно потому, что она есть тело и человечество». Поэтому образ Личности Христа соответствует Таинству только в том случае, если он представляет тело, над которым смерть уже не имеет власти (Рим 5:8-9), то есть Тело Христово воскресшее и прославленное Таким образом, реальность прославленного Тела в Таинстве Евхаристии необходимо сочетается с подлинностью личного образа, потому что описуемое в иконе тело Христово и есть то же «Тело Божие, просиявшее Божественной славой, нетленное, святое, животворящее». Здесь образ, как свидетельство воплощения, сочетается с эсхатологией потому, что прославленное Тело Христово есть Тело Второго Пришествия и Суда. Отсюда и предупреждение 3-го правила Собора 869-870 гг.» «Если кто не почитает икону Спаса Христа, да не увидит Его зрака во Втором Пришествии». Другими словами, с Таинством Евхаристии сопрягается только двойной реализм образа, в котором сочетается изобразимое и неизобразимое. И это соотношение Таинства с образом исключает всякий образ, являющий лишь рабий зрак или же отвлеченное понятие.
Так же как истина иконы Христовой, так и истина иконы святого человека, ее подлинность, заключается в ее соответствии своему первообразу. И поскольку личный опыт обожения заключается в соединении описуемого человечества с неописуемым Божеством, когда, по слову св. Ефрема Сирина, человек, «просветив сердечные очи, всегда как в зеркале видит в себе Господа» и в «тойжде образ преобразуется» (2 Кор. 3:18), то и описуется он также не по образу тленной плоти, а по образу и подобию прославленного Тела Христова.
Здесь следует сделать оговорку. Богословие имеет дело не с отвлеченными понятиями, как философия, а с конкретным фактом, данным в Откровении и превосходящим способы человеческого выражения. Перед тем же фактом стоит и иконопись. Поскольку христианское Откровение превосходит и слова, и образы, то ни словесное, ни образное его выражение сами по себе не могут выразить Бога, сообщить адекватное о Нем понятие, непосредственное Его ведение. В этом смысле они всегда неудача, потому что призваны передать в постижимом непостижимое, в изобразимом неизобразимое, передать иное, иноприродное твари. Но ценность их как раз в том и состоит, что и богословие, и икона достигают вершин человеческих возможностей и оказываются недостаточными. Ведь и Бог открывается Крестом, то есть предельной неудачей. Именно посредством самой этой неудачи, несостоятельности, и богословие, и икона призваны свидетельствовать и делать ощутимым присутствие Божие, постижимое в опыте святости.
В этой области, говорил в своих лекциях В. Лосский, и в богословии, и в иконописи существуют две ереси, противоположные одна другой. Первая ересь - «очеловечение» (имманентизация), снижение Божественной трансцендентности до уровня наших житейских понятий. В искусстве может служить примером эпоха Ренессанса, в богословии - рационализм, который сводит Божественные истины до человеческой философии. Это - богословие без неудачи и искусство без неудачи. Это прекрасное искусство, но оно ограничивает человечество Христово и никак не являет Богочеловека. Вторая ересь - заведомое склонение перед неудачей, отказ от всякого выражения. В искусстве это иконоборчество, отрицание имманентности Божества, то есть самого воплощения. В богословии - это фидеизм. При первой ереси мы имеем нечестивое искусство и нечестивую мысль, при второй нечестие прикрывается видом благочестия.
Эти два, противоположные в своих проявлениях положения, имеют своей исходной точкой одни и те же антропологические предпосылки. Если «в восточной святоотеческой перспективе причастность к божественной жизни есть то, что делает человека человеком, не только в конечном свершении, но с самого его сотворения и в каждый момент его жизни», то «западное богословие традиционно считает доказанным, что самый акт творения предполагает, что человек не только иноприроден Богу, но что ему дано существование, которое автономно как таковое: Боговидение, может быть, и является целью индивидуального опыта некоторых мистиков, но оно не есть условие подлинной человечности человека». Здесь два в корне различных понимания назначения человека, его жизни и творчества: с одной стороны, антропология православная, понимаемая как осуществление человеком богоподобия, которое раскрывается экзистенциально, жизненным, творческим путем и тем самым обуславливает содержание православного образа. С другой стороны - антропология западных исповеданий, утверждающих автономность человека от Бога; человек, хотя и создан по образу Божию, но, будучи автономным, не соотносится со своим Первообразом. На этом зиждется развитие гуманизма с его автономной от Церкви, уже дехристианизированной антропологией современности, где отличие человека от прочей твари мыслится лишь в природных категориях: человек - «животное мыслящее», «социальное» и т.д.
Как мы уже отмечали, с внедрением Филиокве и, в дальнейшем, с принижением личного начала, вместе с учением о тварности благодати (см. предыдущую главу), утверждается иное, не православное соотношение человека и Бога, человека и мира. Автономность от Бога человека утверждает автономность его разума и других сторон его деятельности. Уже Фомой Аквинским естественный разум был признан вполне самостоятельным и независимым от веры. И «именно от Фомы Аквината и нужно вести разрыв христианства и культуры, который оказался столь роковым для всей христианской культуры Запада [...], весь трагический смысл чего обнаружился ныне с полной силой».
Что касается художественного творчества, то уже Каролиновы Книги, в противоречии с Седьмым Вселенским Собором, оторвав его от соборного опыта Церкви, утвердили его автономию и тем самым предопределили весь его дальнейший путь. Суть положения Седьмого Собора, утверждающего икону как равнозначный слову Евангелия путь спасения, была для франкских богословов Карла Великого совершенно непонятна, чужда и потому неприемлема. Формально римокатоличество признает Седьмой Вселенский Собор и исповедует догмат иконопочитания. Но по существу и на практике позиция, выраженная в Каролиновых Книгах, является официальной его позицией до сего времени.
Если на Западе еще в XII и отчасти в XIII веках образ соотносится с христианской антропологией, то постепенное его искажение приводит искусство к окончательному разрыву с ней. Автономное от Церкви искусство ограничивается тем, что не превышает естественных свойств человека. Поскольку нет проникновения нетварного в тварное, то благодать, как тварный дар Бога, только и может улучшить природные свойства человека. Передача иллюзии видимого мира, от которой изначала решительно отвернулось христианство, теперь становится самоцелью. Поскольку неизобразимое мыслится в тех же категориях, что и видимое, исчезает язык символического реализма и Божественная трансцендентность снижается до уровня житейских понятий; то, что несет христианство, минимизируется, приспособляется к человеческому восприятию. Соблазн удачи «живоподобия» затопляет искусство в эпоху Ренессанса. А с увлечением античностью, вместо преображения человеческого тела, утверждается культ плоти. Христианское вероучение об отношении Бога и человека направляется на ложный путь, подрывается христианская антропология. Отсекается вся эсхатологическая перспектива сотрудничества человека с Богом. «По мере того как человеческое внедряется в искусство, все мельчает и профанируется; то, что было откровением, сводится к иллюзии, стирается знак священного, произведение искусства уже только средство наслаждения и удобства: человек в своем искусстве встретил сам себя и поклоняется себе». Образ откровения подменяется «преходящим образом мира сего». И ложь «живоподобия» заключается не только в том, что традиционный образ заменяется вымыслом, но и в том, что с сохранением религиозной тематики грани между видимым и невидимым стираются, различие между ними упраздняется, и это ведет к отрицанию самого существования духовного мира. Образ лишается своего христианского смысла, что в конечном счете приводит к его отрицанию и к открытому иконоборчеству. «Таким образом, иконоборчество реформации оказывается оправданным, оправданным и релятивизированным потому, что оно относится не к подлинному священному искусству, а к вырождению этого искусства на средневековом Западе».
В этом искусстве, утверждающем существующий миропорядок, вырабатываются законы оптической или линейной перспективы, почитаемой не только нормальной, но и единственным научно правильным методом передачи пространства видимого мира, так же как нормальным считается и само видимое состояние этого мира. Эта перспектива, как показал священник П. Флоренский, появляется, «когда разлагается религиозная устойчивость мировоззрения, и священная метафизика общего народного сознания разъедается индивидуальным усмотрением отдельного лица с его отдельной точкой зрения [...]. Тогда появляется и характерная для отъединенного сознания перспективность». Так случилось на Западе в эпоху Ренессанса, а в православном мире в XVII веке. Эта же перспективность, в свою очередь, разлагается в наше время, когда разлагается породившее ее гуманистическое мировоззрение, а с ним разлагается и порожденная им культура и искусство.
Поставив церковное искусство в зависимость от художника, а его самого в зависимость от эпохи и моды, римо-католическая «Церковь никогда не считала ни один стиль собственно ей принадлежащим, но допускала, в соответствии с характером и условиями народов и нуждами различных обрядов то, что характерно для каждой эпохи». «Итак, не существует стиля религиозного или стиля церковного». По отношению к искусству Церковь является лишь меценатом, как и в других областях культурной деятельности. В результате значение образа как выражения соборным опытом Церкви христианского Откровения оказалось закрытым для западных исповеданий. Как известно, Седьмой Вселенский Собор усвояет установление иконописания святым Отцам, водимым Духом Святым. «Святые [...] оставили свои жизнеописания в пользу нам и во спасение, и подвиги свои передали Кафолической Церкви посредством живописных повествований». Эти «подвиги во спасение» - жизненное выражение соответствия иконы евангельской проповеди. Это свидетельство св. Отцов «власть и право выражать или формулировать опыт и веру Церкви» и есть власть учительства. Римо-католичество же изымает власть учительства от св. Отцов и Учителей Церкви и передает ее художнику. «Вы, художники, - говорит папа Павел VI, принимая американских художников, - можете читать Божественное благовестие и истолковывать его людям». Таким образом, фактически развитие человеком своих естественных качеств (в данном случае художественных способностей) оказывается достаточным, чтобы сделать его «носителем Божественного благовестия». Здесь сказывается то же положение, что и в общем направлении богословской мысли, так как западное «современное богословие в основном озабочено тем, чтобы открыть Бога в человеческом опыте как таковом; это ведет к очеловечению Бога и сразу же ставит в противоречие со святоотеческим ведением». В силу своей принципиальной установки, римокатоличество, следуя изменчивости автономной культуры, приняло, так же как в свое время живоподобие Ренессанса, и современное искусство, которое, разрушив до основания старый мир форм и понятий, пришло к дроблению, вылившемуся в разложение, а порой в кощунство и открытый демонизм. «Современное искусство являет нам образ мира, уносимого к новому жребию и как бы разъедаемого жаждой отречения, чтобы ускорить свой переход в будущее [...]. Головокружение пустоты и томление небытия, которое для нашего духа есть абсурд, - это отзвуки тех тем, к которым обращается современная философия экзистенциализма, в частности Сартра».
И вот в момент необратимого крушения этого искусства и породившей его среды, икона входит в этот мир распада и разложения как знамя Православия, как обращение к свободной воле человека, сотворенного по образу Божию. Как свидетельство Божьего воплощения, икона противопоставляет подлинную христианскую антропологию - антропологии, искаженной в западных исповеданиях, и антропологии дехристианизированной современной культуры.
В противовес выявлению свойств, хотя бы и высших, духовно-душевно-телесного состава автономного человека, икона, как и слово Евангелия, несет изначальную и постоянную функцию христианского искусства: раскрытие истинных соотношений между Богом и человеком.
И так же как изначала переворот, внесенный в мир Христом во плоти пришедшим, был воспринят как соблазн и безумие (1 Кор. 1:23), так и в настоящее время в мир, «неразумевший премудростию Бога» (там же, 21), в мир обмана и самообольщения икона идет как «буйство проповеди» (там же). Она несет в этот смятенный мир свидетельство о подлинности реальности иного бытия, иных норм жизненных отношений, внесенных в мир воплощением Бога и неведомых человеку, подчиненному биологическим законам, иное благовестие о Боге, человеке и твари, иное восприятие мира. Она показывает то, к чему призван человек, чем он должен быть, ставит его в иную перспективу. Иначе говоря, икона несет обличение путям человека и мира, но вместе с тем и обращение, и призыв к человеку, показание ему иных путей. Перспективе видимого мира в ней противопоставляется перспектива евангельская, миру, во грехе лежащему, - мир преображенный. И весь строй иконы направлен на то, чтобы приобщить человека к тому Откровению, которое явлено миру в христианстве, раскрыть в видимых формах сущность внесенного им переворота. А выражение этого переворота требует особого построения образа, своих особых средств выражения, своего стиля.
В этом строе, с его так называемой обратной перепективой, «прежде всего поражает целый ряд особенностей формы, которые порой представляются неразрешимой загадкой» для человека новоевропейской культуры. А потому обычно эти особенности формы воспринимаются как деформация. Но деформация эта существует только по отношению к глазу, приученному к прямой или линейной перспективе, и по отношению к тому восприятию мира, которое в наше время считается нормальным, то есть по отношению к формам, выражающим современное нам видение мира. На самом же деле здесь не деформация, а иной художественный язык - язык Церкви. И деформация эта является естественной и даже необходимой в том содержании, которое выражает икона: для традиционного художника-иконописца, как в прошлом, так и в настоящем, этот строй иконы является единственно возможным и необходимым. Выросший из литургического опыта Церкви (вместе с другими видами церковного искусства), он есть противопоставление соборного опыта Церкви «отъединенному сознанию» автономного человека, индивидуальному опыту художника с его «отдельной точкой зрения». Ни линейная перспектива, ни светотень не исключаются из иконописи, но они перестают быть средствами передачи иллюзии видимого мира и включаются в общий строй, в котором доминирует перспектива обратная. Здесь прежде всего нужно сказать, что в этом условном техническом термине «обратная перспектива» понятие обратная неверно, так как здесь нет прямой противоположности, зеркального отражения перспективы линейной. Вообще системы обратной перспективы, аналогичной системе перспективы линейной, не существует. Жесткому закону линейной перспективы противопоставляется иной закон, как иной принцип построения образа, который обуславливается его содержанием. Принцип этот включает целую систему приемов, благодаря которой изображение оказывается (в зависимости от смысла) либо в положении обратном иллюзорности, либо иным по отношению к ней. И система эта, многовариантная и гибкая, и тем самым достаточно свободная для художника, проводится неуклонно, целесообразно и целенаправленно.
Как утверждает современная наука, «оказывается, вблизи мы видим не так, как рисовал Рафаэль [...]. Вблизи мы видим все так, как рисовал Рублев и древнерусские мастера». Позволим себе несколько уточнить это положение. Рафаэль рисовал иначе, чем Рублев, но видел он так же, поскольку здесь действует естественный закон зрительного восприятия. Разница в том, что Рафаэль проводил природные свойства человеческого глаза через контроль своего автономного разума и тем самым отступал от этого закона, подчиняя видимое законам оптической перспективы. Иконописцы же не отклонялись от этого природного свойства человеческого зрения потому, что смысл изображаемого ими не только не требовал, но и не дозволял выхода за рамки естественного восприятия переднего плана, которым и ограничивается построение иконы.
Попытаемся это соответствие построения иконы ее содержанию иллюстрировать несколькими примерами.
Пространственное построение иконы отличается тем, что, будучи трехмерным (икона не плоскостное искусство), оно ограничивает третье измерение плоскостью доски, и изображение обращено к предлежащему пространству. Иначе говоря, по отношению к иллюзорному построению пространства в глубину построение иконы показывает обратное. Если картина, построенная по законам линейной перспективы, показывает пространство другое, никак не связанное с тем реальным пространством, в котором она находится, никак с ним не соотносящееся, то в иконе наоборот: изображенное пространство всключается в пространство реальное, между ними нет разрыва. Изображенное ограничивается одним передним планом. Лица, изображенные на иконе, и лица, предстоящие ей, объединяются в одном пространстве.
Поскольку Откровение обращено к человеку, к нему же обращен и образ.
Построение в глубину как бы отсекается плоским фоном - светом на языке иконописи. В иконе нет единого источника света: здесь все пронизано светом. Свет есть символ Божественного. Бог есть свет, и воплощение Его есть явление света в мире: «Пришел еси и явился еси, Свет неприступный» (кондак Богоявления). Но, как говорит св. Григорий Палама, «Бог именуется Светом не по Сущности Своей, но по своей энергии». Следовательно, свет есть Божественная энергия, и поэтому можно сказать, что он есть главное смысловое содержание иконы. Именно этот свет и лежит в основе ее символического языка. Здесь нужно оговориться: значение символа света не зависит от цвета фона иконы, но наиболее адекватным его образом является золото. Хотя золото иноприродно краскам и несоотносимо с ними, все же употребление красок для фона - света - не противоречит его смыслу, который остается тем же, хотя красочный фон, по сравнению с золотым, и снижает его значимость. Золото дает как бы ключ к пониманию фона как света.
Блеск золота - символ Божественной славы, и это не аллегоризм и не произвольно избранное уподобление, а адекватное выражение. Потому что золото излучает свет, но в то же время его светоносность сочетается с непроницаемостью. Эти свойства золота соотносятся с тем духовным бытием, которое оно предназначено выражать, или со значением того, что оно призвано символически передавать, то есть свойства Божества. «Бог именуется светом не по сущности Своей», потому что Сущность эта непознаваема. «Мы же утверждаем, - говорит св. Василий Великий, - что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания приблизиться к самой Сущности. Ибо хотя действования Его до нас доходят, однако Сущность Его остается неприступною». Эта неприступность Божества именуется мраком. «Божественный мрак есть этот свет неприступный, в котором, как сказано, живет Бог» (1 Тим. 6:16).
Итак, свет неприступный есть «мрак, который светлее света», слепящий, а потому непроницаемый. И вот золото, объединяя в себе слепящий блеск с непроницаемостью, выражает символически адекватно Божественный свет - непроницаемый мрак, то есть нечто по существу иное, чем свет естественный, который противоположен естественному же мраку.
По отношению к изображенному этот свет есть действование Бога, то есть энергия Его Сущности, обнаружение Бога вовне. И «тот, кто причастен Божественной энергии, сам в известном смысле становится светом», потому что «энергии, даруемые христианам Духом Святым, не являются внешней причиной, но благодатью, внутренним светом, который преобразует природу обожая ее». Когда этот Божественный свет осиявает всего человека, по слову св. Симеона Нового Богослова, «человек соединяется с Богом духовно и телесно; потому что ни душа его при этом не отделяется от ума, ни тело от души. Бог вступает в единение со всем человеком». И человек, в свою очередь, становится носителем света для внешнего мира.
Итак, свет и его действие постижимы и познаваемы, а следовательно, изобразимы; непостижимым и непознаваемым остается его источник, закрытый непроницаемым светом-мраком. В соответствии со смыслом и содержанием иконы позволим себе утверждать, что это свойство фона иконы нужно понимать как символическое выражение тезиса апофатического богословия о совершенной непознаваемости Божественной Сущности, которая остается недоступной, то есть как предел, положенный твари в познании Бога. Божественная Сущность всегда остается за рамками человеческого познания и понимания, и эти рамки ведения и понимания - результат не диалектических рассуждений, а опыта Откровения, причастности к нетварному свету.
По учению св. Отцов величие человека заключается не в том, что он - микрокосмос, малый мир в большом, а в его назначении, в том, что он призван стать большим миром в малом, тварным богом. Поэтому все в иконе сосредоточено на образе человека. Автономному от Бога человеку, замкнутому в себе, утерявшему целостность своей природы, в ней противопоставляется человек, осуществивший свое богоподобие, человек, в котором преодолен распад (в нем самом, в человечестве и во всей видимой твари). Маленькому человеку, утерявшему единство с остальной тварью, затерянному в громадном и зловещем мире, икона противопоставляет большого человека, окруженного малым по отношению к нему миром, человека, восстановившего свое царственное положение в мире, преобразившего свою зависимость от него в зависимость мира от Духа, живущего в нем. И вместо ужаса, который человек внушает твари, икона свидетельствует об осуществлении ее чаяний, избавлении ее от «рабства истления» (Рим. 8:21).
Божественная энергия - свет, все объединяющий и оформляющий, преодолевает преграду между духовным и телесным, между миром тварным (видимым и невидимым) и миром Божественным. Весь мир, изображенный на иконе, проникнут животворящей силой нетварного света. Тварь не замкнута в себе; но здесь и не смешение тварного мира с нетварным. Различие между двумя мирами, Божественным и тварным, не упраздняется (как в искусстве живоподобия); но, наоборот, подчеркивается. Мир видимый и изобразимый и мир умопостигаемый, Божественный, неизобразимый, отличаются друг от друга приемами, формами, красками. И проникновение в тварное бытие света иноприродного и нетварного несет преодоление временно-пространственных категорий, объединяет и включает изображенное в иной план бытия, где тварь уже не подвержена условиям бытия падшего мира. Это - «Царство Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9:1), то есть мир, причастный вечности. Изображается не некий неземной или воображаемый мир, а именно мир земной, но приведенный к своему иерархическому порядку, чину, обновленный в Боге проникновением в него, повторим еще раз, нетварной Божественной благодати. Поэтому, как в построении целого, так и в деталях, приемы построения иконы исключают всякую иллюзорность, будь то иллюзия пространства, иллюзия естественного света, человеческой плоти и т.п. Никакой ломки пространства и искажения перспективы, с точки зрения верующего, здесь не происходит, а наоборот, происходит выправление перспективы, потому что мир видится здесь не в перспективе «отъединенного сознания» и множества точек зрения автономного художника, а с единой точки зрения Художника-Творца, то есть как исполнение замысла Творца о твари.
То, что показыает икона, осуществляется как начатки в евхаристической сущности Церкви. «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа» - возглас, которым начинается литургия. Это царство иное по отношению к царству кесареву и противоположное царству князя мира сего. Богослужение же есть вхождение Церкви в новое время, новотворение, где упраздняется распад времени на прошлое, настоящее и будущее; временно-пространственные категории уступают место иному измерению. И так же как пространство, изображенное на иконе, соединяется с пространством предлежащим, так и событие, совершившееся в прошлом времени, объединяется со временем настоящим. Действие, изображенное на иконе, и действие, совершаемое в богослужении, - едины во времени (Дева днесь Пресущественнаго раждает...», «Днесь Владыка твари и Царь славы на Кресте пригвождается»), Настоящее здесь сопрягается с вневременной эсхатологической реальностью: «Вечери Твоея Тайныя днесь [...] причастника мя приими». Между изображенным причащением Апостолов и причастниками в храме нет временно-пространственного разрыва. Через причастие Телу Христову, воскресшему и прославленному, которое показывает икона, Телу Второго Пришествия, Церковь видимая и невидимая соединяется, и во множестве личностей, живых и умерших, осуществляется единство облагодатствованной природы по образу Божественного Триединства.
Содержание иконы определяет не только приемы ее построения, но и технику, и материалы. Как отмечает священник П. Флоренский, «ни техника иконописи, ни применяемые тут материалы не могут быть случайными в отношении культа [...]. Трудно себе представить, даже в порядке формального эстетического исследования, чтобы икона могла быть написана чем угодно, на чем угодно и какими угодно приемами». Действительно, так же как подлинность образа связана с Евхаристией, так же необходимо связана с ней и подлинность всякого вещества, входящего в культ. «Твоя от Твоих Тебе приносяще...» - эти слова взяты из молитвы Давида над материалами, собранными им для постройки храма: «Твоя бо суть вся и от Твоих дахом Тебе». Церковь сохранила этот принцип, получивший в ней полноту своего осмысления в Евхаристии: искупленная Боговоплощением материя вовлекается в служение Богу. Поэтому и в иконе вопрос вещества - не только вопрос прочности и доброкачественности, но, в первую очередь, вопрос подлинности. Другими словами, икона входит в весь комплекс приношения человека, которым осуществляется назначение Церкви - освящать через человека и преображать мир, исцелять пораженное грехом вещество, превращать его в путь к Богу, в способ общения с Ним.
Как мы пытались показать, строй иконы, его целенаправленность и жизненность всецело определяются содержанием образа, так же как и материя, употребляемая в создании иконы. И само «иконописание является одновременно подвигом искусства и подвигом религиозным, полным молитвенного напряжения (почему Церковь и знает особый чин святых - иконописцев, в лице которых тем самым канонизируется и искусство как путь спасения)». А поскольку этот путь спасения есть жизненная причастность к изображенной реальности, можно утверждать, что именно эта причастность и обуславливает превосходство иконы над искусством нового времени в богатстве способов выражения системы ее построения, выработанной мастерами, не знавшими ни законов зрительного восприятия, ни геометрии многомерных пространств.
Только православная икона несет свидетельство полноты Откровения троичного домостроительства, потому что познание Бога в воплощенном Слове, Которое есть Образ Отчий, то есть домостроительство второй Ипостаси, получает свое раскрытие только в икономии третьего Лица Святой Троицы, в свете тайны Пятидесятницы. К этому и было направлено все художественное творчество Церкви после иконоборческого периода, и вершиной его было возрождение исихазма.
Церковное художественное творчество до последнего времени воспринималось в искусствоведческой науке как «связанное догматами Церкви», подчиненное жесткому канону. А канон мыслится как некая, навязанная церковной иерархией, сумма внешних правил, соборных предписаний, подлинников и т.д., закабаляющих творчество художника, требующих от него пассивного подчинения существующим образцам. Словом, свободное искусство жийописи противопоставляется связанной канонами иконописи. Между тем, если уж говорить о правилах и предписаниях, то вернее обратное: ведь именно в реалистической живописи до сих пор была обязательна сумма правил, которым художник должен был подчиняться и которым его обучали в школах (перспектива, анатомия, трактовка светотени, композиция и т.д.). И курьезно, что художниками эта система правил, очевидно, совсем не ощущалась как связанность и подчинение; ими они и пользовались в своем свободном творчестве, которым пытались служить Церкви. Иконописный же канон не только не знает таких правил, но даже подобных понятий; и тем не менее именно от него стремились освободиться. Прогрессивными художниками, завороженными Западом, канон стал восприниматься не только как помеха их творческой свободе, но как гнет. Как мы видели в прошлой главе, освобождения добивались именно от Церкви, от ее догматов, добивались выключения из соборного ее творчества. Освобождались не столько от веры, сколько в порядке расцерковления сознания. Для автономного художника гнетом извне стала Церковь, ее канон (кстати, подчеркнем, - неписаный), ее понятие свободы. Творчество становится индивидуальным и тем самым обособляется. Поскольку иноприродное стало изображаться в категориях природного, содержание канонической иконы становится непонятным; непонятным и чуждым становится ее символический язык и ее творчество.
И вот хаотическому новаторству современных нам течений в искусстве с их культом исторической новизны, в иконе противостоят традиционные формы православного искусства; обособленному творчеству автономного художника противопоставляется иной принцип художественного творчества, индивидуальному - соборное. В Церкви все определяется не стилем, а каноном: всякое творчество, чтобы быть церковным, неизбежно включается в канон. «Каноническое есть церковное, церковное есть соборное», - говорит священник П. Флоренский. Другими словами, творчество художника включается в ту же евангельскую перспективу. Потому что Откровение - не одностороннее действие Бога на человека; оно необходимо предполагает содействие человека, зовет его не к пассивности, а к деятельному усилию познавания и проникновения. Сотворенный по образу Божию человек в своем творчестве, как сотрудник Божий, ценен только как носитель и исполнитель Божественного замысла. И творчество человека осуществляется в сочетании его воли с волей Божественной, в синергии двух действий: Божественного и человеческого. И в этой перспективе художественный язык Церкви, как выражение христианской веры, определяется в своем характере выработанной соборным разумом Церкви нормой - иконописным каноном в собственном смысле.
Эта норма есть найденная форма наиболее адекватного выражения Откровения, в которую и облекается творческое соотношение Бога и человека. И канон предполагает не обособление, а именно включение в соборное творчество Церкви В этом соборном творчестве личность художника осуществляет себя не в утверждении своей индивидуальности, а в самоотдаче; и высшее ее проявление здесь в том, что она как раз подавляет в себе черты обособленности.
В ту же евангельскую перспективу включается понятие свободы. Отвлеченного понятия свободы Церковь не знает, как не знает она и вообще отвлеченных построений. Свобода может быть не вообще, как таковая, а от чего-то конкретного. Для Церкви она заключается в освобождении от порожденных грехопадением искажений человеческой природы. Человек перестает быть в подчинении у своей природы, а обладает ею, подчиняет ее себе, становится «господином своих действий и свободным». На этом пути творчество в каноне воспринимается художником не как выражение своего индивидуального восприятия мира и веры, а как выражение церковной веры и жизни, как служение. Он выражает ту жизнь, в которой участвует, то есть включает свою жизнь и творчество в совокупность других областей церковной жизни, направляемых каноном. И чтобы быть подлинным, его творчество должно быть в согласии с ними, органически в них включаться. «У Церкви много языков, но каждый из них есть язык Церкви только постольку, поскольку он соответствует другим истинным выражениям христианской веры». В разных областях церковной жизни и творчества канон есть средство, в которое Церковь облекает путь спасения человека. В каноне иконописное предание и осуществляет свою функцию как художественный язык Церкви.
Итак, иконописный канон - не жесткий закон и не внешнее предписание или правило, а внутренняя норма. Вот эта норма и ставит человека перед необходимостью сопричастия тому, что несет изображенное. Это сопричастие осуществляется в евхаристической жизни Церкви. Здесь единство откровенной истины сочетается с многообразием личного опыта ее восприятия. Отсюда и невозможность заключить иконописный канон в рамки определения. Стоглавый Собор поэтому и ограничился предписанием следовать древним иконописцам и правилам морали. Этот канон (норма) обеспечивает передачу истины на любой степени причастности к ней, даже если причастие это только формально. Канону следует как художник-творец, так и ремесленник, как в прошлом, так и в настоящее время. Поэтому каноническая икона является свидетельством Православия, несмотря на эмпирически часто встречающуюся несостоятельность носителей истины, самих православных (канон-то, повторяем, и ограждает икону от этой несостоятельности). На любой духовной и художественной степени, и даже на низком ремесленном уровне, каноническая икона, как старая, так и новая, свидетельствует о той же истине. Обратно: та часть искусства, которая освободилась от канона, независимо от дарований художников никогда так и не достигла той высоты художественного достоинства, уж не говоря о высоте духовной, на которой стояла иконопись; она вообще перестала быть свидетельством Православия.
Как мы уже отмечали, Седьмой Вселенский Собор не явил ничего нового: он лишь запечатлел в догмате иконопочитания веру предыдущих Соборов; потому что догматические споры прошлого, христологические и тринитарные, все предполагают вопрос соотношения Божества и человечества, то есть касаются христианской антропологии. Для Православия догмат иконопочитания есть непреходящая истина христианской веры и учения, закрепленная Вселенским Собором. Поэтому в иконе мы должны видеть то же, что видели в ней Отцы и Соборы: торжество Православия, свидетельство Церкви об истине Боговоплощения. Но и в иконоборчестве мы также должны видеть то, что видели в нем защитники иконы: не просто неприятие образа и уничтожение его, а силу, противоборствующую христианству, «христоборчество», по выражению св. Патриарха Фотия. Потому что если корни древнего иконоборчества восходят, как показал протоиерей Г. Флоровский, к неизжитому в христианстве эллинизму, то суть его заключалась не в частном случае борьбы с иконами: его «основа была в том, что по существу речь шла о самом Православии», то есть о Церкви. Прямое иконоборчество, которое было завершением ересей христологического периода, привело к обратному: к осуждению его кафолическим сознанием Церкви, как ереси развоплощения и к утверждению иконопочитания. После Торжества Православия эта затихшая как будто ересь тлеет все время и выливается наружу во все последующие века, изменяя свою личину, меняя свои формы. Иконоборчество ведь может быть не только злостным и открытым: пользуясь непониманием и равнодушием, оно может быть и бессознательным, непреднамеренным и даже благочестивым (ведь и древнее открытое иконоборчество боролось за чистоту христианской веры, так же как позже и протестантство). Искаженный римокатолический образ, как мы видели, привел протестантство к благочестивому отказу от образа, то есть к отказу от видимого, материального свидетельства воплощения, к «образу пустоты». Этот «образ пустоты» внес свой вклад в современное богоборчество в самом христианстве. В настоящее время «многие, особенно из либеральной части протестантства, считают безразличным для существования христианской проповеди, был ли Христос Богом или нет, является ли Его воскресение историческим фактом или нет». Такое положение, естественно, завершается «богословием смерти Бога», то есть явной бессмыслицей как для верующего, так и для атеиста.
В Православии, от контакта с инославием в прошлом, наиболее уязвимым оказался именно образ. Непонимание и равнодушие к его содержанию привело к тому, что в синодальный период из храмов выбрасывались и уничтожались православные иконы, как «варварство», и заменялись подражаниями инославному, но просвещенному Западу. Заимствованное живописное реалистическое направление, «оправославленное» «полусознательным воспоминанием об иконе», внесло «лжесвидетельство», по выражению священника П. Флоренского, лжесвидетельство о Православии. Это лжесвидетельство могло только утверждать неверующих в неверии, а верующим внушать искаженное понимание о Православии и способствовать расцерковлению сознания. Напомним, что по той же причине и в тот же период умное делание, которое питало православную иконопись во времена ее расцвета, было «уничтожено, как зараза и пагуба», по выражению митрополита Филарета, претерпевало гонения и обвинялось в ереси.
Итак, явное или скрытое, преднамеренное или даже благочестивое, всякое иконоборчество, в каких бы формах оно ни проявлялось, способствует развоплощению, подрыву домостроительства Духа Святого в мире, расцерковлению Церкви. Таким образом, по существу речь всегда идет о самом Православии. И борьба за образ Божий никогда не прекращалась, а в новое время особенно обостряется потому, что иконоборчество проявляется не только в намеренном уничтожении икон и в отказе от них в ересях протестантствующего типа; оно сказывается еще и в стремлении к уничтожению образа Божия в человеке, в самых различных экономических, социальных, философских и других идеологиях.
Настоящее положение христианства в мире принято сравнивать с его положением в первые века его существования. «Без-божный не-верующий мир современности не есть ли, в известном смысле, именно этот до-христианский мир, обновившийся во всем пестром сплетении мнимо религиозных, скептических или богоборческих настроений?» Но если в первые века христианство имело перед собой мир языческий, то в наши дни оно стоит перед миром дехристианизированным, возросшим на почве отступничества. И вот перед лицом этого-то мира Православие и «призывается во свидетельство» - свидетельство Истины, которое оно несет своим богослужением и иконой. Отсюда необходимость осознать и выразить догмат иконопочитания в применении к современной действительности, к запросам и исканиям современного человека. Осознание же образа как выражения своей веры есть прежде всего осознание самого Православия, данного во Христе церковного единства. Как выражение общей веры и жизни Церкви, икона стоит над эмпирическими разделениями жизни и деятельности православных. А образное свидетельство этого единства важно в наше время и перед лицом внешнего христианству мира, и перед лицом инославия, потому что одна словесная форма выражения Православия оказывается недостаточной, чтобы ответить на современную проблематику. А именно «сейчас, более чем когда-либо, христианский Запад стоит в раздвинутых перспективах, как живой вопрос, обращенный к православному миру». И вопрос этот касается путей выхода из того тупика, в котором оказался христианский Запад, в частности римокатоличество. «Римокатолическая Церковь, - пишет прелат К. Гамбер, - только тогда изживет современные заблуждения и придет к новому расцвету, когда ей удастся присоединиться к основным силам Восточной Церкви: к ее мистическому богословию, построенному на великих Отцах Церкви, и к ее богослужебному благочестию [...]. Одно представляется несомненным: будущее - не в приближении к протестантству, а во внутреннем единении с Восточной Церковью, то есть в постоянном духовном общении с нею, с ее богословием и благочестием». И по нашему глубокому убеждению, именно догмат иконопочитания и внедрение иконы в инославные исповедания будет способствовать преодолению основных пороков западных конфессий, основных расхождений и несоответствий православному вероучению: учения о тварности благодати и филиоквизма. Потому что икона необходимо предполагает православное понимание личности и православное исповедание домостроительства Духа Святого, а следовательно и православную экклезиологию.
И совсем не случайно, что в наше время происходит проникновение иконы во внеправославный мир. Икона начинает входить в сознание западного человека и, если заражение Православия западным искусством внедрялось в римокатолическом обличии, то теперь наоборот: в римокатоличество и протестантство внедряется икона как свидетельство православной догматики, как выражение христианской веры и путь спасения. «Христианин должен, - пишет Г. Вундерле, - освоиться с тем реализмом, который представляет ему икона; иначе он никогда не приблизится к ее тайне, и она будет для него только бездушной схемой. Для того же, кому дано созерцать Божественное в святой иконе, она становится безошибочным путем к преображению во Христе». В плане молитвенном у верующего христианина, независимо от его исповедания, икона вызывает непосредственную реакцию. В силу своей наглядности она не требует перевода на другой язык, как священный текст.
Но особенно важно то, что начинается возрождение иконы в самом Православии, и возрождение это является жизненной необходимостью нашего времени. Между тем, так же как открытие иконы, оно идет пока вне связи с богословской мыслью и литургическим благочестием, идет, так сказать, вне своего контекста. Если в богословии все же происходит постепенное освобождение от схоластики, то в отношении к образу и его пониманию еще сказывается неизжитое наследие прошлых веков. Что же касается литургического благочестия, то здесь это неизжитое наследие сказывается с особой очевидностью, потому что для многих Предание Церкви стало отождествляться с простым консерватизмом.
Возрождение иконы, повторяем, есть жизненная необходимость нашего времени. Потому что как бы ни были ценны работы, приведшие к открытию иконы, то, что в ней открывается, оживает только в своем жизненном осуществлении. В Церкви все обновляется, обновляется и икона. «Церковь, всегда живая и творческая, вовсе не ищет защиты старых форм как таковых, не противопоставляет их новым как таковым. Церковное понимание искусства было, и есть, и будет одно: реализм. Это значит, что Церковь, столп и утверждение истины, требует только одного - истины». Икона не только может, но и должна быть новой (мы ведь различаем иконы разных эпох именно потому, что они в свое время были новыми по отношению к предыдущим). Но эта новая икона должна быть выражением той же истины. Современное возрождение иконы есть не анахронизм, не привязанность к прошлому или к фольклору, не еще одна попытка «возродить» икону в мастерской художника, а осознание Православия, осознание Церкви, возврат к подлинной художественной передаче святоотеческого опыта и знания христианского Откровения. Как и в богословии, это возрождение обуславливается и характеризуется возвращением к святоотеческому Преданию, а «верность Преданию не есть верность старине, но живая связь с полнотой церковной жизни», живая связь со святоотеческим духовным опытом Возрождение это несет свидетельство в возврате к полноте и целостному восприятию вероучения, жизни и творчества, то есть к тому единству, которое так необходимо для нашего времени. Как выражение непреходящей истины Откровения, современная икона, как и древняя, несет свидетельство спасения, «уготованного пред лицем всех людей», жизненного осуществления того переворота, который внесло в мир появление в нем Церкви - «свет во откровение языков и славу людей» нового Израиля. Откровение, обращенное к человеку, дано Церкви и Церковью осуществляется. Она и есть откровение миру. И тот образ откровения, который она несет в этот мир, есть образ прославленного Тела Христова - образ Церкви, свидетельство ее веры и святости, свидетельство Церкви о себе. И весь строй православной иконы направлен на то, чтобы указать возможности, и пути, и пределы христианского ведения, раскрыть и осмыслить существование человека в истории, его назначение и путь к конечной цели.
Трубецкой Е. Два мира в русской иконописи. Умозрение в красках. Париж, 1965, с. 111
Там же, с. 50.
Трубецкой Е. Россия в ее иконе Париж, 1965, с. 161
Седюлин А.Законодательство о религиозных культах М., 1974, с. 6
Там же, с. 46
Там же, с. 41 См. также Зоц В. Несостоятельные претензии М.1976, с. 135-136
СУ УССР 1922 № 49, ст. 729 Цит. по Седюлин А. Указ.соч., с.32
Декрет «О регистрации, приеме на учет и охране памятников искусства и старины» См.. Антонова В.И, Мнева Н. Е. Каталог древнерусской живописи Третьяковской галереи. М., 1963, т. 1, с. 26.
Benz E. Geist und Leben der Ostkirche. Hamburg, 1957, S. 7.
Там же, с 21.
Критический отзыв на немецкое издание книги Л. Успенского и В. Лосского «Смысл икон» см. в: Католическая мысль. 14 февраля 1953, № 75- 76 (по-французски).
Во Франции в одном Париже существует не менее шести иконописных школ, некоторые со стажем в несколько десятков лет, в том числе школа иезуитов, в свое время приложивших особенно много усилий для разрушения традиционного иконописания.
Отчет подкомиссии «Авторитет Вселенских Соборов // Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1974, № 85-88, с. 40. Этот вопрос продолжал обсуждаться той же подкомиссией в 1976 г. в Загорске.
Так, на вопрос протестантского богослова о значении иконопочитания в Православии православный архиерей отвечает: «Нам так привычно»... С XVIII в. иконопись перешла в ведение светского художника, свободного от догматов Церкви, а затем и изучение иконы перешло в ведение свободной же от догматов науки. На долю церковных людей действительно осталась только благочестивая привычка молиться перед иконой. Но бывает и хуже (это из частных разговоров): «Послушать Вас, можно подумать, что без иконы не может быть Православия», - говорит православный архиерей. «Образ принадлежит самой сущности христианства», - пишет протестантский пастор (см.: J.Ph.Ramseyer. La Parole et Ílmage. Neuchdtel, 1963, p. 58). Как видим, роли иногда меняются: то, что ожидаешь услышать от православного архиерея, понимает и говорит протестантский пастор, и наоборот. Так вековой отрыв от образа привел пастора к православному его осознанию. Вековое же искажение образа привело православного архиерея к протестантскому к нему отношению.
Правда, за последние века православная иерархия была вообще, как мы видели, освобождена от необходимости что-либо знать в области церковного искусства, за нее решала светская власть и Академия художеств
В духовных школах преподается церковная археология; вероучебное же содержание образа до сих пор не преподавалось. Впервые курс иконоведения как богословский предмет был введен в Семинарии Западноевропейского Экзархата Московской Патриархии в Париже в 1954 г. Сведения о содержании образа духовенству приходится черпать в ученых трудах по истории искусства, иногда с неожиданными экскурсами в «теологию». Это, конечно, не значит, что мы отрицаем значение научных работ в области познания иконы. Наоборот, мы считаем их полезным компонентом в образовании духовенства. Но они являются лишь побочным и вспомогательным материалом. Основой же знаний должно быть вероучебное содержание образа. Ни для кого не обязательно знание истории искусств; но знать, во что человек верует, знать - передает ли образ, на который он молится, его веру - обязанность всякого верующего, тем более духовенства.
Если в XIX веке интеллигенту было «стыдно верить», то теперь «настоящему интеллигенту стыдно идти в церковь Очень многое нужно расчищать в Церкви, обновлять, реорганизовывать, чтобы она стала доступной современному сознанию» (священник Дудко Д. О нашем уповании Париж, 1975, с 155) Интеллигент верит, но хочет приспособить веру Церкви к «современному сознанию», не понять Церковь, а приноровить ее к своему непониманию и этим даже спасти ее Нужно сказать, что эта жажда «обновлять и реорганизовывать», приближать к потребностям времени, которую мы уже отмечали (см предыдущую главу, прим 118), отнюдь не порождение именно нашего времени Еще в первой половине V века св. Викентий Леринский писал «Они не удовлетворяются традиционными правилами веры, принятыми от древности Но день ото дня они хотят новизны и еще новизны Они всегда горят желанием что-то добавить, изменить или упразднить в религии» (Коммониториум XXI, франц. изд. Намюр, 1960, с. 97) Итак, «иже возглаголет и речет се сие ново есть, уже есть в вецех, бывших прежде нас» (Екклезиаст, 1, 10)
Шмеман А. Введение в литургическое богословие Париж, 1960, с. 20
См Журнал Московской Патриархии, 1961, № 1
Курьезно то, что если раньше «безскультурьем» считалась иконопись, как искусство «простого народа», то теперь наоборот оказывается, что она предназначается для культурного слоя, бескультурьем же считается «живописное направление», которое именуется «млеком для простого народа»
Если Церковь в своей истории и соблюдала постепенность в приобщении к тайнам домостроительства Божия, то это никак не было связано с понятием «простого народа» и касалось людей, готовившихся к принятию крещения, оглашенных
Корнилович К. Из летописи русского искусства М-Л, 1960, с. 89
Творения Изд. 3-е, Сергиев Посад, 1892, часть 4-я, с. 76
Епископ Игнатий (Брянчанинов) Сочинения Изд. 3-е исправленное и дополненное СПб., 1905, Аскетические опыты Т. 3, с. 76
Флоренский П. Иконостас // Богословские труды. М., 1972, № 9, с. 107 (о живописи Васнецова, Нестерова и Врубеля).
Отметим забавную попытку представить внедрение в Православие римокатолического искусства как «постепенное видоизменение византийского искусства», причем оказывается, что барокко и рококо пользовались успехом «большей части населения России», что русские мастера «не выходили [...] из принятой православной традиции», выражая христианство францисканского типа. Этот поучительный экскурс в историю искусства завершается советом «поучиться у эпохи, имевшей привилегию благодати» (то есть у века «просвещения»? у францисканцев?). (См.: J.P.Besse. Affinites spirituelles du baroque russe // Contacts, Paris, 1975, 91, о, 351- 358.)
Материалы предсоборного совещания // Журнал Московской Патриархии, 1961, № 1.
См. Искусство XVII века. Гл. 14.
Авва Фалассий О любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу. Параграф 98 // Добротолюбие М. , 1888, т. 3, с. 319
Нужно сказать, что вообще диапазон чудес в качественном отношении очень велик, наряду с подлинными, благодатными есть «чудеса», основанные на психическом неврозе, на простодушии, известны и «чудеса», являющиеся простым обманом, а также чудеса дьявольского происхождения (см Мф. 24:24, 2 Сол. 2:9, Апок. 13:13-14, 19-20, ср. 16, 14) Наконец, чудеса подлинные, то есть спасительные, чаще всего совершались Христом не над учениками, а над посторонними, так же как и теперь они совершаются и вне Церкви
Clement О. Questions sur I’homme Paris, 1972, p. 7
Шмеман А. Можно ли верить, будучи цивилизованным? // Вестник РСХД, Париж, 1974, № 107, с. 145-152
Для Израиля пришествие в мир ожидаемого Мессии потому и обернулось соблазном, что обещанное царство Сына Давидова оказалось Царством не от мира сего, да еще царством внутри человека, путь к которому лежит через крест
Цит. по Архимандрит Амфилохий (Радович) Тайна Святой Троицы по св. Григорию Паламе Салоники, 1973, с. 144 (по-гречески)
Лосский В. Богословие образа, с. 123 (по-французски)
Там же, с.129
Но если слово перестает соотноситься с видимым образом, между ними наступает разрыв, разъединяются различные способы выражения истины, ущербляется полнота Откровения. Название «богословие в красках» или «умозрение в красках», которое принято относить к иконе, применимо только тогда, когда она соответствует богословию в его святоотеческом понимании - как боговедение, богообщение В противном случае святоотеческая терминология может применяться к образу в силу простого словосочетания, с этим мы уже сталкивались в XVII веке
Против ересей, V, 16, 2
Флоровский Г Богословские отрывки//Путь, Париж, 1931, №31, с 23
И слово, и образ живут только в Предании Вне предания Евангелие превращается, как это и произошло, в исторический памятник первых веков христианства, Ветхий Завет - в историю еврейского народа, а Церковь растворяется в общем понятии религии, потому что "отрицание значимости Предания есть, в сущности, отрицание Церкви как тела Христова, нечувствие и умаление ее» (см. Флоровский Г. Дом Отчий // Путь, Париж, 1927, №27, с. 78)
Немецкое резюме книги архимандрита Амфилохия (Радовича) «Тайна Святой Троицы по св. Григорию Паламе» см. там же, с. 231
Иоанн Дамаскин Первое слово в защиту святых икон, гл. 9
Отметим довольно своеобразное истолкование иконы и Ороса Седьмого Вселенского Собора в книге L"An de grace du Seigneur - Un commentaire de l"аnnee liturgique byzantine par un moin de ÍEghse d"Orient Beyrouth, 1972, t. 2, p. 169 «Напомним здесь, - говорит автор, - некоторые основные понятия об иконах Прежде всего, икона не есть изображение, подобие» Однако, по святоотеческому учению, икона именно портрет и именно подобие первообраза, от которого она отличается своей природой Если же икона «не изображение и не подобие», то как же она, по словам самого же автора, имеет своей темой все же «Личность Христа, Богоматери» и вообще святых" Далее автор старается убедить читателя в том, что «не следует преувеличивать роль иконы в христианском благочестии Церковь никогда не обязывала верующих иметь у себя иконы или предоставлять им определенное место в личной молитве или благочестии́ Но Православная Церковь ни в чем никогда не «обязывает» (само понятие «обязательства» свойственно не Православию, а римокатоличеству), она для пользы своих членов выносит определения Так, в Оросе Собора и сказано «Определяем полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях честне святые иконы чествовать их лобзанием и почитательным поклонением»
См. главу " Большой Московский Собор и образ Бога Отца» См.также Мейендорф И Христос в византийском богословии Париж, 1969, с. 260 (по-французски)
Христианство не только не «дематериализует материю, но наоборот оно предельно материалистично Оно изначала не только реабилитиру ет тело но утверждает его спасительность, утверждает преображение человеческого естества и его воскресение в теле в материи "Я не поклоняюсь веществу, - пишет cв. Иоанн Дамаскин - но поклоняюсь Творцу вещества, сделавшемуся веществом ради меня и через посредство вещества соделавшему мое спасение и не перестану почитать вещест во, через которое произошло мое спасение (Первое слово в защиту святых икон, гл. XVI и Второе слово гл. XIV)
Мейендорф И.Указ. соч.
VII Вселенский Собор //Деяния Вселенских Соборов Изд. Казанской Духовной Академии Казань, 1873, т. 7, с. 538
См. главу Послеиконоборческий период
Псалтирь, или богомысленные размышления М. , 1904, параграф 51, с. 107
Meyendorff J. Philosophy, Theology, Palamism and “Secular Christianity” // St. Vladimir’s Seminary Quarterly, Ns. 4, 1966, Crestvood N. Y. , p. 205
Зеньковский В. Основы христианской философии Франкфурт-на-Майне, 1960, т. 1, с. 9 и 10
Onimus J. Reflexions sur I’art actuel. Paris, 1964, p. 80
Clement O. Un ouvrage important sur I’art sacre // Contacts, Paris, 1963, № 44, p. 278.
Флоренский П.А. Обратная перспектива // Труды по знаковым системам III Тарту, 1967, с. 385.
Конситуция о богослужении II Ватиканского Собора. Гл. VII Священное искусство и предметы культа, параграф 123. Франц.изд.: Париж, 1966, с. 100.
Слово «икона» греческого происхождения. Греческое слово eikon означает «образ», «портрет». В период формирования христианского искусства в Византии этим словом обозначалось всякое вообще изображение Спасителя, Богоматери, святого, Ангела или события Священной Истории, независимо от того, было ли это изображение скульптурным монументальной живописью или станковой, и независимо от того, какой техникой оно было исполнено. Теперь слово «икона» применяется по преимуществу к моленной иконе, писанной красками, резной, мозаической и т.д. Именно в этом смысле оно употребляется в археологии и истории искусства. В Церкви мы также делаем известную разницу между стенной росписью и иконой, писанной на доске, в том смысле, что стенная роспись, фреска или мозаика, не является предметом сама по себе, но представляет одно целое со стеной, входи г в архитектуру храма, тогда как икона, писанная на доске, – предмет сама по себе. Но по существу их смысл и значение одни и те же. Разницу мы видим лишь в употреблении и назначении того и другого. Таким образом, говоря об иконах, мы будем иметь в виду церковный образ вообще, будь он писан красками на доске, исполнен на стене фреской, мозаикой или же скульптурный. Впрочем, и русское слово «образ», как и французское «image», имеют смысл очень широкий и относятся ко всем этим видам изображений.
Прежде всего нам придется вкратце остановиться на тех расхождениях, которые существуют в вопросе происхождения христианского искусства и отношения к нему Церкви первых веков. Научные гипотезы о возникновении христианского образа многочисленны, разнообразны и противоречивы; противоречат они часто и точке зрения Церкви. Взгляд же Церкви на этот образ и его возникновение – один-единственный и неизменный от начала до наших дней. Православная утверждает и учит, что священный образ есть следствие Боговоплощения, на нем основывается и потому присущ самой сущности христианства, от которого он неотделим.
Противоречие этому церковному взгляду распространяется в науке с XVIII века. Известный английский ученый Гиббон (1737–1791), автор книги «История упадка и падения Римской империи», заявил, что первые христиане питали непреодолимое отвращение к изображениям. По его мнению, причиной этого отвращения было еврейское происхождение христиан. Гиббон думал, что первые иконы появились лишь в начале IV века. Мнение Гиббона нашло многих последователей, и идеи его, к сожалению, в той или иной форме живут и до наших дней.
Несомненно, некоторые христиане, особенно пришедшие из иудейства, основываясь на ветхозаветном запрете образа, отрицали возможность его и в христианстве, и это тем более, что христианские общины были со всех сторон окружены язычеством с его идолопоклонством. Учитывая весь разрушительный опыт язычества, эти христиане пытались оградить от заразы идолопоклонства, которое могло проникнуть в нее через художественное творчество. Возможно, что иконоборчество так же старо, как иконопочитание. Все это очень понятно, но не могло иметь решающего значения в Церкви, как мы увидим.
Отвращение первых христиан к искусству основывается, в современной науке, на текстах нескольких древних писателей , которые именуются в таких случаях Отцами Церкви и которые якобы являются противниками христианского искусства. Здесь необходимо сделать оговорку: поскольку употребляется церковный термин (Отцы Церкви), то не следует отклоняться от его значения. Но, несмотря на то уважение, с которым относится к некоторым из древних авторов, основоположных для аргументации ученых ( , ), она не считает их вполне православными . Таким образом Церкви приписывается то, что она своим не считает. Даже если эти авторы и боролись бы против христианского искусства, их писания не могут рассматриваться как голос Церкви, а лишь как их частное мнение или как отражение некоторых враждебных образу течений внутри Церкви. Святыми Отцами писателей этих считать никак нельзя, и дело здесь не в словах. Те, кто именует их Отцами Церкви, тем самым отождествляют их позицию с позицией Церкви, голосом которой они якобы являются. Отсюда и выводится заключение, что сама боролась с изображениями из страха перед идолопоклонством. «Христианское искусство родилось вне Церкви, – читаем мы, – и, по крайней мере вначале, развивалось почти против ее воли. , вышедшее из иудейства, было естественно, как и религия, из которой оно произошло, враждебно всякому идолопоклонству». Отсюда вывод: «Таким образом, христианское искусство создала не . По-видимому, она недолго сохраняла к нему равнодушное и незаинтересованное отношение; приняв искусство, она, несомненно, его в некоторой мере регламентировала, но своим возникновением оно обязано инициативе верующих» . Проникновение образа в христианский культ рассматривается здесь как явление, происшедшее в лучшем случае благодаря нерешительности и колебаниям иерархии перед этой «паганизацией» христианства. Если искусство появилось в Церкви, то произошло это помимо ее воли. «Мы, вероятно, не ошибемся, если отнесем общий переворот в позиции Церкви по отношению к изображениям к периоду между 350 – 450 гг.», – пишет Т.Клаузерз . Итак, в глазах современных ученых , отождествляемая с иерархией и духовенством, противопоставляется верующим, и именно эти последние навязали образ иерархии. Но такое отождествление Церкви с одной только иерархией противоречит понятию Церкви, каким оно было в первые века христианства и каким осталось в Православии. Именно духовенство и миряне вместе составляют тело Церкви.
Но теории эти противоречат также и материальным памятникам. Ведь известно существование росписей в катакомбах с самых первых веков, притом именно в местах сборов, где происходило богослужение, а также в местах (как, например, римская катакомба Каллиста), где по преимуществу хоронили духовенство. Таким образом, росписи эти были известны не только простым верующим, но и иерархии. Трудно предположить, чтобы духовенство, совершая богослужение перед этими росписями, их не замечало и, если было враждебно искусству, не предпринимало никаких мер, чтобы положить предел такому заблуждению .
Иконоборствующая позиция нескольких древних авторов и предубеждение против изображений некоторых христиан нашего времени (а именно протестантов) привело к отождествлению христианского образа с идолом, и это смешение было с легкостью приписано Древней Церкви, для которой якобы ветхозаветный запрет образа оставался действительным. Но никакой православный верующий не может мириться с подобным отождествлением иконы с идолом. И мы знаем, что на всем протяжении своей истории как раз проводила между ними очень четкую грань. Доказательств этому немало и в произведениях античных писателей, и в житиях древних святых, и позже.
Что касается древних писателей, то даже если признать, что они действительно боролись против изображений (как, например, Евсевий), то уже самый факт противоборства доказывает и существование, и важную роль изображений в христианстве, ибо нельзя бороться с тем, чего нет, и незачем бороться против того, что не имеет значения. Но большинство приводимых авторов, протестуя против изображений, имеют в виду определенно образы языческие. Так, который считается среди них наиболее непримиримым, пишет: «Искусство обманывает и обольщает [...], увлекая если не к любви, то во всяком случае к уважению и почитанию статуй и картин. Ибо то же действительно и для живописи. Можно хвалить это искусство, но пусть оно не обманывает человека, выдавая себя за истину» . Итак, Климент говорит лишь об изображениях, которые обольщают и обманывают, выдавая себя за истину, то есть борется против изображений ложных. В другом же месте он пишет: «Нам разрешается иметь кольцо, служащее печатью. Изображения, выгравированные на нем, должны быть предпочтительно голубь, рыба, быстрый корабль под надутыми парусами; можно изображать на нем даже лиру Пликрата или якорь, как Селевк; наконец, рыбака у берега моря, вид которого напомнит нам Апостола и детей, вынимаемых из воды» . Все перечисленные изображения являются христианскими символами. Итак, ясно, что в глазах Климента существует два совершенно различных рода изображений: одни полезны для христиан, другие ложны и неприемлемы. Сам Климент подтверждает это тем, что порицает христиан, изображающих на своих печатях языческих богов, мечи и стрелы богини войны, бокалы Вакха и прочие предметы, несовместимые с м. Все это показывает у Климента мудрое и осторожное отношение к искусству. Правда, он говорит лишь о светском употреблении последнего, не упоминая о культовой его роли, и отношение его к ней неизвестно.
Следует, однако, иметь в виду, что наука никогда не стояла в отношении христианского искусства на одной и той же точке зрения и наряду с изложенными суждениями были и другие. Так, известный историк искусства , основываясь на тех же текстах упомянутых древних авторов, а также на писаниях святого и святого Афинагора, приходит к следующему заключению: «Следовательно, ответы апологетов ничего не говорят о принципиальном предубеждении христиан против изображений, а свидетельствуют лишь о недостаточной распространенности их в то время» . И действительно, если бы христиане не принимали в принципе никаких изображений, то мы не имели бы памятников христианского искусства первых веков, которые найдены как раз в местах собраний христиан. С другой стороны, распространение изображений в последующие века было бы явлением непонятным и необъяснимым, если бы они не существовали раньше.
Но существует еще один текст, который неизменно цитируется в качестве доказательства враждебности Церкви к изображениям. Это 36-е правило Поместного Эльвире (Испания) около 300 г. Правило это гласит. Изволися нам, чтобы живописных изображении не было в церкви и чтобы то, что почитаемо и поклоняемо, не было изображено на стенах» (Placuit picturas in ecclesia esse поп debere, nequod colitur et adoratur in parietibus depingatur). Однако, если мы без предвзятости вдумаемся в смысл этого текста, мы увидим, что он совсем не столь неоспорим, как его пытаются представить. Как мы видим, речь идет лишь об изображениях на стенах, то есть о монументальной живописи, составляющей одно целое со зданием храма, но ничего не говорится о другого рода изображениях. Между тем мы знаем, что в это время в Испании было много других изображений, например на саркофагах, на священных сосудах и т.д. Если Собор о них не упоминает, то можно заключить, что его постановление продиктовано причинами характера скорее практического, чем принципиальным отрицанием священных изображений. Не следует забывать, что Эльвирский Собор (точная дата которого, кстати, неизвестна) состоялся незадолго до гонений Диоклетиана. Не следует ли видеть в его 36-м правиле скорее попытку оградить святыню от поругания? С другой стороны, Эльвирский Собор имел своей целью прекращение разного рода злоупотреблений. Не могло ли их быть также в почитании изображений?
В глазах Церкви решающим фактором является не древность того или иного свидетельства за или против иконы (не хронологический фактор), а то – согласно или несогласно данное свидетельство с христианским Откровением.
Отказ от образа в некоторых течениях первых веков христианства объясняется, по-видимому, некоторой неясностью в отношении к образу, а также отсутствием ясного и адекватного богословского языка, как словесного, так и образного. Чтобы ответить на все недоговоренности и на разнообразие отношений к искусству, Церкви придется выработать такой художественный язык и такие словесные формулировки, которые уже не оставят места ни для каких недоразумений. По существу, в области искусства положение было тем же, что и в богословии и в богослужении. Все неясности, нечеткости и отсутствие единства выражения происходили от той трудности, с которой тварный мир воспринимал, ассимилировал и выражал то, что его превосходит. Кроме того, нужно иметь в виду, что Спаситель избрал для Своего воплощения и первой проповеди христианства мир иудейский и греко-римский. В этом мире самый факт вочеловечения Бога и тайна креста были для одних соблазном, для других безумием. Следовательно, соблазном и безумием был и образ, их отражавший. Но как раз к этому миру и была обращена проповедь христианства. Для того чтобы понемногу подготовить людей к воистину непостижимой тайне Боговоплощения, сначала обращалась к ним на языке, более для них приемлемом, чем прямой образ. Это и представляется нам основной причиной обилия символов в первые века христианства. Это была, по выражению святого Апостола Павла, жидкая пища, свойственная детскому возрасту. Иконность образа очень медленно и с большим трудом усваивалась человеческим сознанием и искусством. Только время и нужды различных исторических эпох выявили постепенно этот священный характер, эту иконность образа, привели к упразднению первохристианских символов и очистили христианское искусство от всевозможных чуждых ему элементов, затемнявших его содержание.
Итак, несмотря на существование в Церкви некоторых течений, отрицательно относившихся к изображениям, существовала и основная ее линия, утверждавшая образ, которая без какой-либо внешней формулировки все более и более доминировала. Выражением этой основной линии Церкви и является ее Предание, утверждающее существование иконы Спасителя еще при Его жизни и икон Божией Матери, появившихся после Пятидесятницы. Предание это свидетельствует о том, что в Церкви с самого начала было ясное понимание смысла и значения образа, что отношение Церкви к образу остается неизменным, что отношение это вытекает из ее учения о Боговоплощении. Согласно этому учению, образ присущ самой сущности христианства, ибо есть Откровение не только Слова Божия, но и Образа Божия, явленного Богочеловеком Иисусом Христом. учит, что икона основывается на самом факте воплощения второго Лица Святой Троицы. А это значит, что христианский образ не только не означает разрыва, или даже противоречия с ветхозаветным законом, как понимают это протестанты, а как раз наоборот – он есть прямое его осуществление и последствие. Ибо существование образа в Новом Завете предполагается уже самым его запретом в Ветхом Завете. Как ни странно это для постороннего человека, но для самой Церкви существование образа непосредственно вытекает из отсутствия прямого образа в Ветхом Завете – это его последствие и завершение. Предок христианского образа – не языческий идол, как это думают иногда, а отсутствие прямого, конкретного образа до воплощения и ветхозаветный символ, точно так же как предком самой Церкви является не языческий мир, а древний Израиль, избранный Богом народ для принятия Его Откровения. Для Церкви совершенно очевидно, что запрещение образа, данное Священным Писанием в Исходе (20, 4) и во Второзаконии (5, 12–19), есть временная педагогическая, воспитательная мера, относящаяся лишь к Ветхому Завету, а не принципиальное запрещение. «Дах им заповеди не добры"(Езек.20,25), по жестокосердию их, – поясняет причину запрета преп. . Ибо запрещая образ прямой и конкретный, Писание в то же время передает повеление Божие делать образы символические, какими являлись скиния и предметы, в ней находящиеся. Они имели преобразовательное, символическое значение, и устройство их было указано Самим Богом до мельчайших подробностей.
Учение Церкви об образе и ее отношение к ветхозаветному запрету с особой ясностью выражены преп. в его замечательных «Словах в защиту святых икон», написанных в ответ иконоборцам, отрицавшим иконы как раз на основании ветхозаветного запрета и смешивавших христианский образ с идолом. Преп. раскрывает смысл ветхозаветного запрета и, на сопоставлении библейских и евангельских текстов, показывает, что христианский образ не только не противоречит библейскому запрету, а, как уже было сказано, является его завершением, так как исходит из самой сущности христианства.
Что же касается запрета образа твари, данного Богом через Моисея, то этот запрет преследовал только одну цель: не допустить избранный народ до поклонения твари вместо Творца: «Да не поклонишися им, ни послужиши им» (; Второз. 5, 9), так как при склонности народа к идолослужению как сама тварь, так и образ ее, безусловно, таили опасность обожествления и поклонения им как Богу. Ибо после падения род человеческий подвергся растлению, а с ним и весь земной мир. Поэтому и образ этого растленного грехом человека или какой-либо другой твари не мог приближать человека к единому истинному Богу, а мог, наоборот, лишь удалять от Него, увлекая к идолослужению. Образ этот был нечист и во всяком случае не мог быть строительным. Поэтому нужно было во что бы то ни стало удержаться от прямого, конкретного образа.
Другими словами: никакой образ твари не может заменить образа Божия, которого народ не видел, когда «говорил [...] Господь на Хориве». Поэтому-то перед Богом уже само творение какого бы то ни было «подобия» было беззаконием: «Не беззаконнуйте, и не сотворите себе самим подобия ваянна, всякого образа подобия мужеска пола или женска» (Второз. 4, 16).
То, что ветхозаветный запрет образа является именно мерой оградительной, связанной со служением избранного народа, показывает повеление Бога Моисею устроить «по образу, показанному на горе» скинию и все, что в ней находилось, в том числе шитых и литых херувимов ( и 31). Это повеление делать херувимов указывает прежде всего на возможность изображать духовный тварный мир средствами искусства. Кроме того, херувимов можно делать не вообще сколько угодно и где угодно, ибо евреи могли и перед их образом, как перед всяким другим, впасть в идолослужение. Но херувимов можно и должно было изображать лишь в указанном количестве и только в скинии, как служителей истинного Бога, то есть в месте и положении, подчеркивающих их служение.
Это противоречие общему правилу показывает, что само правило не носило абсолютного, принципиального характера. Поэтому и «Соломон, получивший излияние мудрости, изображая небо, сделал херувимов и подобия львов и волов», – говорит . То, что твари изображались при храме, то есть там, где воздавалось поклонение единому истинному Богу, несомненно исключало всякую возможность их обоготворения .
Для устройства скинии «по указанному образу» Богом назначаются люди, причем люди, которые не просто могут сделать показанное по словам Моисея, в силу своих естественных способностей. Нет. Господь говорит: «Исполних его (Веселиила) Духом Божиим премудрости, и мышления, и ведения, во всяком деле разумети». И дальше о помощниках Веселиила: «Всякому смысленному сердцем дах смысл, и потрудятся, и сотворят вся, елика заповедах тебе» ( и 6). Здесь явное указание на то, что искусство на служение Богу не есть искусство вообще, как таковое: его основа – не способность или мудрость человеческая, а премудрость Духа Божия, дух смышления и дух ведения, дарованный Самим Богом. Другими словами – богодухновенен самый принцип богослужебного искусства; этим Писание проводит четкую грань между искусством, посвященным богослужению, и искусством вне его.
Для нас это очень важно, так как эта обособленность, богодухновенность богослужебного искусства свойственна не только Ветхому Завету, но самому принципу этого искусства. Таким он был в Ветхом Завете, таким он остался и в Новом Завете.
Но вернемся к объяснению преп. . Если в Ветхом Завете непосредственное Божественное Откровение людям осуществлялось в слове, то в Новом Завете оно осуществляется и в слове, и в образе, ибо Невидимый стал видим, Неописуемый сделался описуемым. Теперь открывается людям не только в слове, через посредство пророков: Он Сам является им в Лице воплощенного Слова, Он «пребывает с людьми». В Евангелии от Матфея (13, 16–17), говорит преп. , Господь, то есть Тот Самый , Который проглаголал в Ветхом Завете, говорит, ублажая Своих учеников, а с ними и всех тех, кто живет их жизнью и идет по их стопам: «Ваша же блаженна очеса, яко видят, и уши ваши, яко слышат. Аминь бо глаголю вам, яко мнози пророцы и праведницы вожделеша видети, яже видите, и не видеша, и слышати, яже слышите, и не слышаша» . И действительно, когда Христос говорит Своим ученикам, что глаза их блаженны потому, что видят то, что видят, и уши их блаженны потому, что слышат то, что слышат, это явно относится к чему-то такому, чего никто еще не видал и не слыхал, так как у людей всегда были глаза и уши, чтобы видеть и слышать. Эти слова Христовы не относятся и к Его чудесам, так как ветхозаветные пророки тоже творили чудеса (так, Моисей, Илья, воскресивший мертвого, заключивший небеса и т.д.). Слова эти значат, что ученики уже непосредственно видели и слышали возвещенного пророками воплотившегося Бога. «Бога никтоже виде нигдеже, – говорит евангелист Иоанн Богослов, – Единородный Сын, сый в лоне Отчи, Той исповеда» ().
Отличительная черта Нового Завета есть то, что в нем слово неотделимо от образа. Поэтому Отцы и Соборы, всякий раз говоря об образе, подчеркивают: «Якоже слышахом, тако и видехом», цитируя псалом 47, 9: «Якоже слышахом, тако и видехом во граде Господа сил, во граде Бога нашего» . То, что человек видит, неотделимо здесь от того, что он слышит. Но то, что слышали и видели Давид и Соломон, было лишь пророческими словами, пророческими образами того, что осуществилось в Новом Завете. Теперь же, в Новом Завете, человек получает Откровение грядущего Царствия Божия, и Откровение это дается ему и в слове, и в образе воплощенным Сыном Божиим.
Апостолы видели своими телесными глазами то, что в Ветхом Завете было лишь предображено в символах. «Бестелесный и не имеющий формы некогда не был изображаем никак. Теперь же, когда Бог явился во плоти и с человеки поживе, я изображаю видимую сторону Бога» . В этом-то и состоит коренная разница между ветхозаветными видениями и новозаветным образом: тогда пророки видели духовными очами нематериальный, невещественный образ, предуказывавший будущее (Иезекииль, Иаков, Исаия...). Теперь же человек видит телесными глазами исполнение их провидения – Бога во плоти. Святой евангелист Иоанн выражает это с большой силой в начальных словах своего Первого послания: «Еже бе исперва, еже слышахом, еже видехом очима нашима, еже узрехом, и руки наша осязаша...».
«Итак, – продолжает преп. , – Апостолы телесным образом видели Христа, видели Его страдания, Его чудеса и слышали Его слова. Сильно желаем и мы увидеть и услышать [...]. Те видели лицом к лицу, так как Он телесно присутствовал. Мы же – потому, что Он не присутствует телесно, как бы через посредство книг слушаем слова Его и освящаем свой слух, и через него свою душу, и считаем себя блаженными, и поклоняемся, почитая книги, через посредство которых мы слышим Его слова. Так и через посредство иконной живописи мы созерцаем изображения телесного Его вида, и чудес, и страданий Его, освящаемся и вполне удовлетворяемся, и радуемся, и считаем себя счастливыми [...]. И почитаем и кланяемся телесному образу Его. А созерцая телесный вид Его, мы восходим, насколько это возможно, к созерцанию и славы Его Божества [...]» . Следовательно, подобно тому как через чувственные слова, которые мы слышим телесными ушами, мы также понимаем и духовное, так и через телесное созерцание приходим к созерцанию духовному.
Это толкование святого отца нашего не является ни выражением его личного мнения, ни некоторым добавлением к первоначальному учению Церкви. Учение об образе органически входит в состав христианского учения, так же как, например, учение о двух природах Иисуса Христа или почитание Богоматери. Преп. лишь систематизировал и формулировал в VIII веке то, что существовало в Церкви изначала. Сделал он это в ответ на положение, которое требовало большой ясности и точности, так же как ему пришлось формулировать учение Церкви о православной вере в целом – в своем замечательном творении «Точное изложение православной веры».
Итак, ветхозаветные прообразы возвещали грядущее спасение, явление Бога во плоти и приобщение человека к Божественному бытию, то, что Отцы выразили четкой и ясной формулой: «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом». В центре дела нашего искупления стоит Христос, ставший Человеком, и непосредственно рядом с Ним первый человек, достигший обожения – Богоматерь. На этих двух Лицах сосредоточивается все многообразие ветхозаветных образов как исторических, так и выраженных через животных или предметы. Так, например, жертвоприношение Исаака, агнец, медный змий предображали Христа; Эсфирь, заступница за народ перед царем, стамна, содержащая небесный хлеб, жезл Ааронов и другие предображали Богоматерь. Осуществление этих пророческих предображений и выражается в новозаветной Церкви двумя основными образами, занимающими центральное положение в нашем богослужении: образами Спасителя – Бога, ставшего Человеком, и образом Пресвятой Богородицы – первого человеческого существа, достигшего полного обожения. Поэтому и первые иконы, появившиеся одновременно с христианством, суть иконы Христа и Богоматери. Утверждая это своим Преданием, основывает на этих двух образах всю свою иконографию.
Осуществление обета, данного Богом человеку, освящает всю тварь, в том числе и людей Ветхого Завета, включая и объединяя их в едином искупленном человечестве. Теперь, после Боговоплощения, мы уже можем изображать и пророков, и праотцев Ветхого Завета, как представителей человечества, уже искупленного кровью воплощенного Сына Божия. Изображения этих людей, так же как и новозаветных праведников, уже не могут теперь привести нас к идолопоклонству, «так как мы получили от Бога способность, – говорит святой , – различать, и знаем – что может быть изобразимо и что не может быть выражено посредством изображения. Ибо закон пестун нам бысть во Христа, да от веры оправдимся [...]. Пришедшей же вере, уже не под пестуном есмы» (. Эта связь христианства с образом и объясняет тот факт, что образ появляется в Церкви изначала, как нечто само собой разумеющееся, и занимает в ней принадлежащее ему место, несмотря на ветхозаветный запрет и некоторое противодействие.
«Богословие иконы в Православной Церкви», посвященную памяти протопресвитера Александра Шмемана.
Протоиерей Александр Шмеман очень тонко чувствовал значение красоты и гармонии для духовной жизни человека. Сам прекрасно разбирался в искусстве, обладал безошибочным художественным вкусом, что придавало его размышлениям, глубоким по содержанию, прекрасную форму и стиль. Немало места в его наследии занимает богословское осмысление искусства: «Что такое подлинное произведение искусства, в чем секрет его совершенства? Это полное совпадение, слияние закона и благодати. Без закона невозможна благодать, и именно потому, что они о том же самом — как образ и исполнение, форма и содержание, идея и реальность… В искусстве это очевиднее всего. Оно начинается с закона, то есть с "уменья", то есть, в сущности, с послушания и смирения, принятия формы. Оно исполняется в благодати: когда форма становится содержанием, до конца являет его, есть содержание» (1).
Одним из высших проявлений художественного гения человека отец Александр совершенно справедливо полагал икону, что имеет ясное богословское, христологическое подтверждение: «Икона есть плод «обновления» искусства, и появление ее в Церкви связано, конечно, с раскрытием в церковном сознании смысла Богочеловечества: полноты Божества, обитающей во Христе телесно. Бога никто никогда не видел, но Его полностью являет человек Христос. В Нем Бог становится видимым. Но это означает, что Он становится и описуемым. Образ Человека Иисуса есть образ Бога, потому что Христос Богочеловек… В иконе — еще с одной стороны раскрывается глубина Халкидонского догмата, и она дает новое измерение человеческому искусству, потому что Христос дал новое измерение самому человеку» (2).
В настоящем докладе мне хотелось бы остановиться на нескольких наиболее характерных свойствах иконы в Православной Церкви. Я попытаюсь рассмотреть православную икону в ее богословском, антропологическом, космическом, литургическом, мистическом и нравственном аспектах.
Богословское значение иконы
Прежде всего, икона теологична. Е. Трубецкой называл икону «умозрением в красках» (3), а священник Павел Флоренский — «напоминанием о горнем первообразе» (4). Икона напоминает о Боге как том Первообразе, по образу и подобию которого создан каждый человек. Богословская значимость иконы обусловлена тем, что она живописным языком говорит о тех догматических истинах, которые открыты людям в Священном Писании и церковном Предании.
Святые отцы называли икону Евангелием для неграмотных. «Изображения употребляются в храмах, дабы те, кто не знает грамоты, по крайней мере глядя на стены, читали то, что не в силах прочесть в книгах», — писал святитель Григорий Великий, папа Римский (5). По словам преподобного Иоанна Дамаскина, «изображение есть напоминание: и чем является книга для тех, которые помнят чтение и письмо, тем же для неграмотных служит изображение; и что для слуха — слово, это же для зрения — изображение; при помощи ума мы вступаем в единение с ним» (6). Преподобный Феодор Студит подчеркивает: «Что в Евангелии изображено посредством бумаги и чернил, то на иконе изображено посредством различных красок или какого-либо другого материала» (7). 6-е деяние VII Вселенского Собора (787 г.) гласит: «Что слово сообщает через слух, то живопись показывает молча через изображение».
Иконы в православном храме играют катехизическую роль. «Если к тебе придет один из язычников, говоря: покажи мне твою веру… ты отведешь его в церковь и поставишь перед разными видами святых изображений», — говорит преподобный Иоанн Дамаскин (8). В то же время икону нельзя воспринимать как простую иллюстрацию к Евангелию или к событиям из жизни Церкви. «Икона ничего не изображает, она являет», — говорит архимандрит Зинон (9). Прежде всего, она являет людям Бога Невидимого — Бога, Которого, по слову евангелиста, «не видел никто никогда», но Который был явлен человечеству в лице Богочеловека Иисуса Христа (Ин. 1:18).
Как известно, в Ветхом Завете существовал строжайший запрет на изображение Бога. Первая заповедь Моисеева декалога гласит: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог Ревнитель» (Исх. 20:4-5). Любое изображение невидимого Бога было бы плодом человеческой фантазии и ложью против Бога; поклонение такому изображению было бы поклонением твари вместо Творца. Однако Новый Завет был откровением Бога, Который стал человеком, то есть сделался видимым для людей. С той же настойчивостью, с какой Моисей говорит о том, что люди на Синае не видели Бога, апостолы говорят о том, что они видели Его: «И мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца» (Ин. 1:14); «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали… о Слове жизни» (1 Ин. 1:1). И если Моисей подчеркивает, что народ израильский не видел «никакого образа», а только слышал голос Божий, то апостол Павел называет Христа «образом Бога Невидимого» (Кол. 1:15), а Сам Христос говорит о Себе: «Видевший Меня видел Отца». Невидимый Отец являет Себя миру через Свой образ, свою икону — через Иисуса Христа, невидимого Бога, ставшего видимым человеком.
То, что невидимо, то и неизобразимо, а что видимо, то можно изображать, так как это уже не плод фантазии, но реальность. Ветхозаветный запрет на изображения невидимого Бога, по мысли преподобного Иоанна Дамаскина, предуказывает возможность изображать Его, когда Он станет видимым: «Ясно, что тогда (в Ветхом Завете) тебе нельзя было изображать невидимого Бога, но когда увидишь Бестелесного вочеловечившимся ради тебя, тогда будешь делать изображения Его человеческого вида. Когда Невидимый, облекшись в плоть, становится видимым, тогда изображай подобие Явившегося… Все рисуй — и словом, и красками, и в книгах, и на досках» (10).
Протоиерей Александр Шмеман в книге «Исторический путь Православия» дает прекрасное разъяснение догмата иконопочитания, его принципиального значения для утверждения истиной христологической позиции: «Но потому что Бог до конца соединился с человеком, изображение Человека Христа есть и изображение Бога: "все человеческое Христа уже есть живой образ Божеского" (о. Г. Флоровский). А в этом соединении и само "вещество" обновляется и становится "достохвальным": "Не веществу покланяюсь, но Творцу вещества, ставшему вещественным мене ради и через вещество соделавшему мое спасение; и не перестану почитать вещество, через которое совершено мое спасение" (11) … Это христологическое определение иконы и иконопочитания и составляет содержание догмата, провозглашенного VII Вселенским Собором и с этой точки зрения этот собор завершает собой всю христологическую смуту — дает ей ее последний "космический" смысл. … Догмат иконопочитания завершает таким образом догматическую "диалектику" эпохи Вселенских Соборов, сосредоточенную, как мы уже говорили, на двух основоположных темах Христианского Откровения: на учении о Троице и на учении о Богочеловечестве. В этом отношении "вера cеми Вселенских Соборов и Отцов" есть вечный и непреложный фундамент Православия» (12).
Эта богословская установка была окончательно сформулирована в ходе борьбы против иконоборческой ереси VIII-IX веков, однако имплицитно она присутствовала в Церкви с первых веков ее существования. Уже в римских катакомбах мы встречам изображения Христа — как правило, в контексте тех или иных сцен из Евангельской истории.
Иконографический облик Христа окончательно формируется в период иконоборческих споров. Параллельно формулируется богословское обоснование иконографии Иисуса Христа, с предельной ясностью выраженное в кондаке праздника Торжества Православия: «Неописанное Слово Отчее из Тебе, Богородице, описася воплощаемь, и оскверншийся образ в древнее вообразив, божественною добротою смеси. Но исповедающе спасение, делом и словом сие воображаем». Этот текст, принадлежащий перу святителя Феофана, митрополита Никейского, одного из защитников иконопочитания в IX веке, говорит о Боге Слове, Который через воплощение сделался «описуемым»; приняв на Себя падшее человеческое естество, Он восстановил в человеке тот образ Божий, по которому человек был создан. Божественная красота (слав. «добрóта»), смешавшись с человеческой скверной, спасла естество человека. Это спасение и изображается на иконах («делом») и в священных текстах («словом»).
Византийская икона являет не просто человека Иисуса Христа, но именно Бога воплотившегося. В этом отличие иконы от живописи Ренессанса, представляющей Христа «очеловеченным», гуманизированным. Комментируя данное отличие, Л. Успенский пишет: «Церковь имеет "очи, чтобы видеть", так же как "уши, чтобы слышать". Поэтому и в Евангелии, написанном человеческим словом, она слышит слово Божие. Также и Христа она всегда видит очами непоколебимой веры в Его Божество. Поэтому она и показывает Его на иконе не как обыкновенного человека, а как Богочеловека в славе Его, даже в момент Его крайнего истощания… Именно поэтому Православная Церковь в своих иконах никогда не показывает Христа просто человеком, страдающим физически и психически, подобно тому как это делается в западной религиозной живописи» (13).
Икона неразрывно связана с догматом и немыслима вне догматического контекста. В иконе при помощи художественных средств передаются основные догматы христианства — о Святой Троице, о Боговоплощении, о спасении и обожении человека.
Многие события евангельской истории трактуются в иконописи прежде всего в догматическом контексте. Например, на канонических православных иконах никогда не изображается воскресение Христово, а изображается исход Христа из ада и изведение Им оттуда ветхозаветных праведников. Образ Христа, выходящего из гроба, нередко со знаменем в руках (14) — весьма позднего происхождения и генетически связан с западной религиозной живописью. Православное Предание знает лишь образ исшествия Христа из ада, соответствующий литургическому воспоминанию Воскресения Христова и богослужебным текстам Октоиха и Триоди цветной, раскрывающим это событие с догматической точки зрения.
Антропологическое значение иконы
По своему содержанию каждая икона антропологична. Нет ни одной иконы, на которой не был бы изображен человек, будь то Богочеловек Иисус Христос, Пресвятая Богородица или кто-либо из святых. Исключение составляют лишь символические изображения (15), а также образы ангелов (впрочем, даже ангелы на иконах изображаются человекоподобными). Не существует икон-пейзажей, икон-натюрмортов. Ландшафт, растения, животные, бытовые предметы — все это может присутствовать в иконе, если того требует сюжет, но главным героем любого иконописного изображения является человек.
Икона — не портрет, она не претендует на точную передачу внешнего облика того или иного святого. Мы не знаем, как выглядели древние святые, но в нашем распоряжении имеется множество фотографий людей, которых Церковь прославила в лике святых в недавнее время. Сравнение фотографии святого с его иконой наглядно демонстрирует стремление иконописца сохранить лишь самые общие характерные особенности внешнего облика святого. На иконе он узнаваем, однако он иной, его черты утончены и облагорожены, им придан иконный облик.
Икона являет человека в его преображенном, обоженном состоянии. «Икона, — пишет Л. Успенский, — есть образ человека, в котором реально пребывает попаляющая страсти и всеосвящающая благодать Духа Святого. Поэтому плоть его изображается существенно иной, чем обычная тленная плоть человека. Икона — трезвенная, основанная на духовном опыте и совершенно лишенная всякой экзальтации передача определенной духовной реальности. Если благодать просвещает всего человека, так что весь его духовно-душевно-телесный состав охватывается молитвой и пребывает в божественном свете, то икона видимо запечатлевает этого человека, ставшего живой иконой, подобием Бога» (16). По словам архимандрита Зинона, икона есть «явление преображенной, обоженной твари, того самого преображенного человечества, которое в своем лице явил Христос» (17).
Согласно библейскому откровению, человек был создан по образу и подобию Божию (Быт. 1:26). Некоторые Отцы Церкви отличают образ Божий как то, что изначально дано Богом человеку, от подобия как цели, которой ему предстояло достичь в результате послушания воле Божией и добродетельной жизни. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет: «Бог из видимой и невидимой природы Своими руками творит человека по Своему образу и подобию. Из земли Он образовал тело человека, душу же разумную и мыслящую дал ему Своим вдуновением. Это мы и называем образом Божиим, ибо выражение "по образу" указывает на умственную способность и свободную волю, тогда как выражение "по подобию" означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека» (18).
Через грехопадение образ Божий в человеке был помрачен и искажен, хотя и не был полностью утрачен. Падший человек подобен потемневшей от времени и копоти иконе, которую необходимо расчистить для того, чтобы она засияла в своей первозданной красоте. Это очищение происходит благодаря воплощению Сына Божия, Который «оскверншийся образ в древнее вообразил», то есть восстановил оскверненный человеком образ Божий в его первозданной красоте, а также благодаря действию Духа Святого. Но и от самого человека требуется аскетическое усилие для того, чтобы благодать Божия не была в нем тщетна, чтобы он был способен вместить ее.
Христианская аскеза есть путь к духовному преображению. И именно преображенного человека являет нам икона. Православная икона в той же мере является учительницей аскетической жизни, в какой она научает догматам веры. Иконописец сознательно делает руки и ноги человека более тонкими, чем в реальной жизни, черты лица (нос, глаза, уши) более удлиненными. В некоторых случаях, как, например, на фресках и иконах Дионисия, изменяются пропорции человеческого тела: туловище удлиняется, а голова становится почти в полтора раза меньше, чем в реальности. Все эти и многие другие художественные приемы подобного рода призваны передать то духовное изменение, которое претерпевает человеческая плоть благодаря аскетическому подвигу святого и преображающему воздействию на нее Святого Духа.
Плоть человека на иконах разительно отличается от плоти, изображаемой на живописных полотнах: это становится особенно очевидным при сопоставлении икон с реалистической живописью Ренессанса. Сравнивая древнерусские иконы с полотнами Рубенса, на которых изображена тучная человеческая плоть во всем ее обнаженном безобразии, Е. Трубецкой говорит о том, что икона противопоставляет новое жизнепонимание биологической, животной, зверопоклоннической жизни падшего человека (19). Главное в иконе, считает Трубецкой, — «радость окончательной победы Богочеловека над зверочеловеком, введение во храм всего человечества и всей твари». Однако, по мнению философа, «к этой радости человек должен быть подготовлен подвигом: он не может войти в состав Божьего храма таким, каков он есть, потому что для необрезанного сердца и для разжиревшей, самодовлеющей плоти в этом храме нет места: и вот почему иконы нельзя писать с живых людей» (20).
Икона святого показывает не столько процесс, сколько результат, не столько путь, сколько пункт назначения, не столько движение к цели, сколько саму цель. На иконе перед нами предстает человек не борющийся со страстями, но уже победивший страсти, не взыскующий Царства Небесного, но уже достигший его. Поэтому икона не динамична, а статична. Главный герой иконы никогда не изображается в движении: он или стоит или сидит. (Исключение составляют житийные клейма, о которых будет сказано чуть ниже). В движении изображаются только второстепенные персонажи, — например, волхвы на иконе Рождества Христова, — или герои многофигурных композиций, имеющих заведомо вспомогательный, иллюстративный характер.
По той же причине святой на иконе никогда не пишется в профиль, но почти всегда в фас или иногда, если того требует сюжет, в полупрофиль. В профиль изображаются только лица, которым не воздается поклонение, т.е. либо второстепенные персонажи (опять же, волхвы), либо отрицательные герои, например, Иуда-предатель на Тайной вечери. Животные на иконах тоже пишутся в профиль. Конь, на котором сидит святой Георгий Победоносец, изображен всегда в профиль, так же как и змий, которого поражает святой, тогда как сам святой развернут лицом к зрителю.
По учению святителя Григория Нисского, после воскресения мертвых люди получат новые тела, которые будут так же отличаться от их прежних, материальных тел, как тело Христа после Воскресения отличалось от Его земного тела. Новое, «прославленное» тело человека будет световидным и легким, однако оно сохранит «образ» материального тела. При этом, по словам святого Григория, никакие недостатки материального тела, как, например, различные увечья или признаки старения, не будут ему присущи (21). Точно так же и икона должна сохранять «образ» материального тела человека, но не должна воспроизводить телесные недостатки.
Икона избегает натуралистического изображения боли, страданий, она не ставит целью эмоционально воздействовать на зрителя. Иконе вообще чужда всякая эмоциональность, всякий надрыв. Именно поэтому на византийской и русской иконе распятия, в отличие от ее западного аналога, Христос изображается умершим, а не страждущим. Последним словом Христа на кресте было: «Свершилось» (Ин. 19:30). Икона показывает то, что произошло после этого, а не то, что этому предшествовало, не процесс, а итог: она являет свершившееся. Боль, страдания, агония, — то, что так привлекало в образе Христа страждущего западных живописцев эпохи Ренессанса, — все это в иконе остается за кадром. На православной иконе распятия представлен мертвый Христос, но Он не менее прекрасен, чем на иконах, изображающих Его живым.
Главным содержательным элементом иконы является ее лик. Древние иконописцы отличали «личное» от «доличного»: последнее, включавшее фон, ландшафт, одежды, нередко поручалось ученику, подмастерью, тогда как лики всегда писал сам мастер (22). Духовным центром иконного лика являются глаза, которые редко смотрят прямо в глаза зрителя, но и не направлены в сторону: чаще всего они смотрят как бы «поверх» зрителя — не столько ему в глаза, сколько в душу. «Личное» включает не только лик, но и руки. В иконах руки часто обладают особой выразительностью. Преподобные отцы нередко изображаются с поднятыми вверх руками, причем ладони обращены к зрителю. Этот характерный жест — как и на иконах Пресвятой Богородицы типа «Оранта» — является символом молитвенного обращения к Богу.
Космический смысл иконы
Если главным героем иконы всегда является человек, то ее фоном нередко становится образ преображенного космоса. В этом смысле икона космична, так как она являет природу — но природу в ее эсхатологическом, измененном состоянии.
Согласно христианскому пониманию, изначальная гармония, существовавшая в природе до грехопадения человека, была нарушена в результате грехопадения. Природа страдает вместе с человеком и вместе с человеком ожидает искупления. Об этом говорит апостол Павел: «…Тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно (23) стенает и мучится доныне» (Рим. 8:19-21).
Эсхатологическое, апокатастатическое, искупленное и обоженное состояние природы отображает икона. Черты осла или лошади на иконе так же утончены и облагорожены, как черты человека, и глаза у этих животных на иконах человечьи, а не ослиные или лошадиные. Мы видим на иконах землю и небо, деревья и траву, солнце и луну, птиц и рыб, животных и пресмыкающихся, но все это подчинено единому замыслу и составляет единый храм, в котором царствует Бог. На таких иконописных композициях, как «Всякое дыхание да хвалит Господа», «Хвалите имя Господне» и «О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь», пишет Е. Трубецкой, «можно видеть всю тварь поднебесную, объединенную в прославлении бегающих зверей, поющих птиц и даже рыб, плавающих в воде. И во всех этих иконах тот архитектурный замысел, которому подчиняется вся тварь, неизменно изображается в виде храма — собора: к нему стремятся ангелы, в нем собираются святые, вокруг него вьется райская растительность, а у его подножия или вокруг него толпятся животные» (24).
Как отмечает философ, «зачинаясь в человеке, новый порядок отношений распространяется и на низшую тварь. Совершается целый космический переворот: любовь и жалость открывают в человеке начало новой твари. И эта новая тварь находит себе изображение в иконописи: молитвами святых храм Божий отверзается для низшей твари, давая в себе место ее одухотворенному образу» (25).
В некоторых, достаточно редких, случаях природа становится не фоном, а основным объектом внимания церковного художника — например, в мозаиках и фресках, посвященных сотворению мира. Прекрасным образцом подобного рода являются мозаики собора святого Марка в Венеции (XIII век), на которых внутри гигантского круга, разделенного на множество сегментов, изображены шесть дней творения. В мозаиках собора святого Марка, а также на некоторых иконах и фресках — как византийских, так и древнерусских — природа иногда изображается одушевленной. В мозаике равеннского баптистерия (VI век), посвященной Крещению Господню, Христос представлен погруженным по пояс в воды Иордана, справа от него Иоанн Креститель, а слева персонифицированный Иордан в виде старца с длинными седыми волосами, длинной бородой и зеленой ветвью в руке. На древних иконах Крещения Господня в воде нередко изображаются два маленьких человекообразных существа, мужское и женское: мужское символизирует Иордан, женское — море (что является иконописной аллюзией на Пс. 114:3: «Море виде и побеже, Иордан возвратися вспять»). Некоторые воспринимают эти фигурки как реликты языческой античности. Мне же представляется, что они, скорее, свидетельствует о восприятии иконописцами природы как живого организма, способного воспринимать благодать Божию и откликаться на присутствие Божие. Сойдя в воды Иордана, Христос освятил Собою все водное естество, которое с радостью встретило и приняло в себя Бога воплотившегося: эту истину и являют человекообразные существа, изображаемые на иконах Крещения Господня.
На некоторых древнерусских иконах Пятидесятницы внизу, в темной нише изображается человек в царской короне, над которым стоит надпись: «космос». Этот образ иногда толкуется как символ вселенной, просвещенной действием Святого Духа через апостольское благовестие. Е. Трубецкой видит в «царе-космосе» символ древнего космоса, плененного грехом, которому противопоставляется мирообъемлющий храм, наполненный благодатью Святого Духа: «Из самого противоположения Пятидесятницы космосу царю видно, что храм, где восседают апостолы, понимается как новый мир и новое царство: это — тот космический идеал, который должен вывести из плена действительный космос; чтобы дать в себе место этому царственному узнику, которого надлежит освободить, храм должен совпасть со вселенной: он должен включить в себя не только новое небо, но и новую землю. И огненные языки над апостолами ясно показывают, как понимается та сила, которая должна произвести этот космический переворот» (26).
Греческое слово «космос» означает красоту, добрóту, благообразие. В трактате Дионисия Ареопагита «О божественных именах» Красота трактуется как одно из имен Божиих. Согласно Дионисию, Бог есть совершенная Красота, «потому что от Него сообщается собственное для каждого благообразие всему сущему; и потому что Оно — Причина благоустроения и изящества всего и наподобие света излучает всем Свои делающие красивыми преподания источаемого сияния; и потому что Оно всех к Себе привлекает, отчего и называется красотой». Всякая земная красота предсуществует в божественной Красоте как в своей первопричине (27).
В книге с характерным названием «Мир как осуществление красоты» русский философ Н. Лосский говорит: «Красота есть абсолютная ценность, т.е. ценность, имеющая положительное значение для всех личностей способных воспринимать ее… Совершенная красота есть полнота Бытия, содержащая в себе совокупность всех абсолютных ценностей» (28).
Природа, космос, все земное мироздание является отображением божественной красоты, и именно это призвана явить икона. Но мир причастен божественной красоте лишь в той мере, в какой он не «покорился суете», не утратил способность ощущать присутствие Божие. В падшем мире красота сосуществует с безобразием. Впрочем, как зло не является полноценным «партнером» добра, но лишь отсутствием добра или противлением добру, так и безобразие в мире сем не превалирует над красотой. «Красота и безобразие не равно распределены в мире: в целом красоте принадлежит перевес», утверждает Н. Лосский (29). В иконе же — абсолютное преобладание красоты и почти полное отсутствие безобразия. Даже змий на иконе святого Георгия и бесы в сцене Страшного суда имеют менее устрашающий и отталкивающий вид, чем многие персонажи Босха и Гойи.
Литургический смысл иконы
Икона по своему назначению литургична, она является неотъемлемой частью литургического пространства — храма — и непременным участником богослужения. «Икона по сущности своей… никак не является образом, предназначенным для личного благоговейного поклонения, — пишет иеромонах Габриэль Бунге. — Ее богословское место — это, прежде всего, Литургия, где благовестие Слова восполняется благовестием образа» (30). Вне контекста храма и Литургии икона в значительной степени утрачивает свой смысл. Конечно, всякий христианин имеет право повестить иконы у себя дома, но этим правом он обладает лишь постольку, поскольку его дом является продолжением храма, а его жизнь — продолжением Литургии. В музее же иконе не место. «Икона в музее — это нонсенс, здесь она не живет, а только существует как засушенный цветок в гербарии или как бабочка на булавке в коробке коллекционера» (31).
Икона участвует в богослужении наряду с Евангелием и другими священными предметами. В традиции Православной Церкви Евангелие является не только книгой для чтения, но и предметом, которому воздается литургическое поклонение: за богослужением Евангелие торжественно выносят, верующие прикладываются к Евангелию. Точно так же и икона, которая есть «Евангелие в красках», является объектом не только лицезрения, но и молитвенного поклонения. К иконе прикладываются, перед ней совершают каждение, перед ней кладут земные и поясные поклоны. При этом, однако, христианин кланяется не раскрашенной доске, но тому, кто на ней изображен, поскольку, по словам святого Василия Великого, «честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз» (32).
Смысл иконы как объекта богослужебного поклонения раскрывается в догматическом определении VII Вселенского Cобора, который постановил «чествовать иконы лобзанием и почтительным поклонением — не тем истинным по нашей вере служением, которое приличествуют одному только Божескому естеству, но почитанием по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего Креста и святому Евангелию, и прочим святыням». Отцы Собора, вслед за преподобным Иоанном Дамаскиным, отличали служение (latreia), которое воздается Богу, от поклонения (proskynesis), которое воздается ангелу или человеку обоженному, будь то Пресвятая Богородица или кто-либо из святых.
Древние храмы украшались не столько иконами, написанными на доске, сколько стенной живописью: именно фреска является наиболее ранним образцом православной иконографии. Уже в римских катакомбах фрески занимают существенное место. В послеконстантиновскую эпоху появляются храмы, сплошь расписанные фресками, сверху донизу, по всем четырем стенам. Наиболее богатые храмы, наряду с фресками, украшаются мозаикой.
Самым очевидным отличием фрески от иконы является то, что фреску невозможно вынести из храма: она намертво «прикреплена» к стене и навсегда связана именно с тем храмом, для которого написана. Фреска живет вместе с храмом, стареет вместе с ним, реставрируется вместе с ним и погибает вместе с ним. Будучи неразрывно связана с храмом, фреска составляет органичную часть литургического пространства. Сюжеты фресок, так же как и сюжеты икон, соответствуют тематике годового богослужебного круга. В течение года Церковь вспоминает основные события библейской и евангельской истории, события из жизни Пресвятой Богородицы и из истории Церкви. Каждый день церковного календаря посвящен памяти тех или иных святых — мучеников, святителей, преподобных, исповедников, благоверных князей, юродивых и т.д. В соответствии с этим настенная роспись может включать в себя изображения церковных праздников (как христологического, так и богородичного цикла), образы святых, сцены из Ветхого и Нового Заветов. При этом события одного тематического ряда, как правило, располагаются в одном ряду. Всякий храм задумывается и строится как единое целое, и тематика фресок соответствует годовому литургическому кругу, отражая в то же время и специфику самого храма (в храме, посвященном Пресвятой Богородице, фрески будут изображать Ее житие, в храме, посвященном святителю Николаю, — житие святителя).
Иконы, написанные на деревянной доске темперой по левкасу или же исполненные в технике энкаустики, получают распространение в послеконстантиновскую эпоху. Однако в ранневизантийском храме икон было немного: два образа — Спасителя и Божией Матери — могли размещаться перед алтарем, тогда как стены храма украшались исключительно или почти исключительно фресками. В византийских храмах не было многоярусных иконостасов: алтарь отделялся от наоса невысокой преградой, которая не скрывала происходящее в алтаре от глаз верующих. До сего дня на греческом Востоке иконостасы делаются главным образом одноярусными, с невысокими царскими вратами, а чаще и вовсе без царских врат. Многоярусные иконостасы получили широкое распространение на Руси в послемонгольскую эпоху, причем, как известно, количество ярусов увеличивалось в течение веков: к XV веку появляются трехъярусные иконостасы, в XVI веке — четырехъярусные, в XVII-м — пяти-, шести- и семиярусные.
Развитие иконостаса на Руси имеет свои глубокие богословские причины, достаточно подробно проанализированные рядом ученых. Архитектоника иконостаса обладает цельностью и завершенностью, а тематика соответствует тематике фресок (нередко иконы в иконостасе тематически дублируют настенные росписи). Богословский смысл иконостаса заключается не в том, чтобы скрыть что-либо от верующих, но, наоборот, чтобы открыть им ту реальность, окном в которую является каждая икона. По словам Флоренского, иконостас «не прячет что-то от верующих… а напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им, хромым и увечным, вход в иной мир, запертый от них собственной косностью, кричит им в глухие уши о Царстве Небесном» (33).
Для раннехристианской Церкви характерно активное участие в богослужении всех верующих — и клириков, и мирян. В настенных росписях этого периода важнейшее место отводится евхаристической тематике. Евхаристический подтекст имеют уже раннехристианские настенные символы, такие как чаша, рыба, агнец, корзина с хлебами, виноградная лоза, птица, клюющая виноградную гроздь. В византийскую эпоху вся храмовая роспись тематически ориентируется на алтарь, по-прежнему остающийся открытым, а алтарь расписывается образами, имеющими непосредственное отношение к Евхаристии. К числу таковых относится «Причащение апостолов», «Тайная вечеря», изображения творцов Литургии (в частности, Василия Великого и Иоанна Златоуста) и церковных гимнографов. Все эти образы должны настроить верующего на евхаристический лад, подготовить его к полноценному участию в Литургии, к причащению Тела и Крови Христовых.
Изменение стиля иконописания в разные эпохи было тоже связано с изменением евхаристического сознания. В синодальный период (XVIII-XIX века) в русском церковном благочестии окончательно закрепился обычай причащаться один или несколько раз в год: в большинстве случаев люди приходили в храм для того, чтобы «отстоять» обедню, а не для того, чтобы приобщиться Святых Христовых Тайн. Упадку евхаристического сознания полностью соответствовал тот упадок в церковном искусстве, который привел к замене иконописи реалистичной «академической» живописью, а древнего знаменного пения партесным многоголосием. Храмовые росписи этого периода сохраняют лишь отдаленное тематическое сходство со своими древними прототипами, но полностью лишаются всех основных характеристик иконописи, отличающих ее от обычной живописи.
Возрождение евхаристического благочестия в начале XX века, стремление к более частому Причащению, попытки преодоления барьера между духовенством и народом — все эти процессы по времени совпали с «открытием» иконы, с возрождением интереса к древнему иконописанию. Церковные художники начала XX века начинают искать пути к возрождению канонического иконописания. Этот поиск продолжается в среде русской эмиграции — в творчестве таких иконописцев, как инок Григорий (Круг). Завершается он уже в наши дни в иконах и фресках архимандрита Зинона и целого ряда других мастеров, возрождающих древние традиции.
Мистический смысл иконы
Икона мистична. Она неразрывно связана с духовной жизнью христианина, с его опытом богообщения, опытом соприкосновения с горним миром. В то же время икона отражает мистический опыт всей полноты Церкви, а не только отдельных ее членов. Личный духовный опыт художника не может не отображаться в иконе, но он преломляется в опыте Церкви и проверяется им. Феофан Грек, Андрей Рублев и другие мастера прошлого были людьми глубокой внутренней духовной жизни. Но они не писали «от себя», их иконы глубочайшим образом укоренены в церковном Предании, включающем в себя весь многовековой опыт Церкви.
Многие великие иконописцы были великими созерцателями и мистиками. По свидетельству преподобного Иосифа Волоцкого о Данииле Черном и Андрее Рублеве, «пресловущии иконописцы Даниил и ученик его Андрей… толику добродетель имуще, и толико потщание о постничестве и о иноческом жительстве, якоже им божественныя благодати сподобитися и толико в божественную любовь предуспети, яко никогда же о земных упражнятися, но всегда ум и мысль взносити к невещественному и божественному свету… на самый праздник светлого Воскресения на седалищах седяща и пред собою имуща всечестныя и божественные иконы, и на тех неуклонно зряща, божественныя радости и светлости исполняхуся, и не точию на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху» (34).
Опыт созерцания божественного света, о котором говорится в приведенном тексте, отражен во многих иконах — как византийских, так и русских. Это особенно относится к иконам периода византийского исихазма (XI-XV вв.), а также к русским иконам и фрескам XIV-XV веков. В соответствии с исихастским учением о фаворском свете как нетварном свете Божества лик Спасителя, Пресвятой Богородицы и святых на иконах и фресках этого периода нередко «подсвечивается» белилами (классическим примером являются фрески Феофана Грека в новгородском храме Спаса Преображения). Получает распространение образ Спасителя в белом одеянии с исходящими от Него золотыми лучами — образ, основанный на евангельском рассказе о Преображении Господнем. Обильное использование золота в иконописи исихастского периода тоже связано, как считается, с учением о фаворском свете.
Икона вырастает из молитвы, и без молитвы не может быть настоящей иконы. «Икона — это воплощенная молитва, — говорит архимандрит Зинон. — Она создается в молитве и ради молитвы, движущей силой которой является любовь к Богу, стремление к Нему как совершенной Красоте» (35). Будучи плодом молитвы, икона является и школой молитвы для тех, кто созерцает ее и молится перед ней. Всем своим духовным строем икона располагает к молитве. В то же время молитва выводит человека за пределы иконы, поставляя его перед лицом самого первообраза — Господа Иисуса Христа, Божией Матери, святого.
Известны случаи, когда во время молитвы перед иконой человек видел живым изображенного на ней. Так, например, преподобный Силуан Афонский увидел живого Христа на месте Его иконы: «Во время вечерни, в церкви… направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа… Невозможно описывать то состояние, в котором он находился в тот час, — говорит его биограф архимандрит Софроний. — Мы знаем из уст и писаний блаженного старца, что его осиял тогда Божественный свет, что он был изъят из этого мира и духом возведен на небо, где слышал неизрекаемые глаголы, что в тот момент он получил как бы новое рождение свыше» (36).
Не только святым, но и простым христианам, даже грешникам являются иконы. В сказании об иконе Божьей Матери «Нечаянная Радость» повествуется о том, как «некий человек беззаконник имел правило ежедневно ко Пресвятой Богородице молиться». Однажды во время молитвы Божия Матерь явилась ему и предостерегла от греховной жизни. Такие иконы, как «Нечаянная Радость», на Руси называли «явлéнными».
Вопрос о чудотворных иконах и вообще о соотношении между иконой и чудом заслуживал бы отдельного рассмотрения. Сейчас мне хотелось бы остановиться на одном явлении, которое получило распространение явление: речь идет о мироточении икон. Как относиться к этому феномену? Прежде всего, следует сказать о том, что мироточение является неопровержимым, многократно зафиксированным фактом, который невозможно подвергать сомнению. Но одно дело — факт, другое — его истолкование. Когда в мироточении икон видят признак наступления апокалиптических времен и близости пришествия антихриста, то это не более чем частное мнение, никоим образом не вытекающее из сути самого феномена мироточения. Мне думается, что мироточение икон — не мрачное предзнаменование грядущих бедствий, а, наоборот, явление милости Божией, посланной для утешения и духовного укрепления верующих. Икона, источающая миро, является свидетельством реального присутствия в Церкви того, кто на ней изображен: она свидетельствует о близости к нам Бога, Его Пречистой Матери и святых.
Богословское истолкование феномена мироточения требует особой духовной мудрости и трезвенности. Ажиотаж, истерика или паника вокруг этого феномена неуместны и наносят вред Церкви. Погоня за «чудом ради чуда» вообще никогда не была свойственна истинным христианам. Сам Христос отказывался дать иудеям «знамение», подчеркивая, что единственным истинным знамением является Его собственное схождение во гроб и Воскресение.
Нравственное значение иконы
В заключение мне хотелось бы сказать несколько слов о нравственном значении иконы в контексте современного противостояния между христианством и так называемым «постхристианским» секулярным гуманизмом.
«Настоящее положение христианства в мире принято сравнивать с его положением в первые века его существования… — пишет Л. Успенский. — Но если в первые века христианство имело перед собой мир языческий, то в наши дни оно стоит перед миром дехристианизированным, возросшим на почве отступничества. И вот перед лицом этого-то мира Православие и "призывается во свидетельство" — свидетельство Истины, которое оно несет своим богослужением и иконой. Отсюда необходимость осознать и выразить догмат иконопочитания в применении к современной действительности, к запросам и исканиям современного человека» (37).
В секулярном мире господствуют индивидуализм и эгоизм. Люди разобщены, каждый живет сам для себя, одиночество стало хронической болезнью многих. Современному человеку чуждо представление о жертвенности, чужда готовность отдать жизнь за жизнь другого. Чувство взаимной ответственности друг за друга и друг перед другом у людей притупляется, его место занимает инстинкт самосохранения.
Христианство же говорит о человеке как члене единого соборного организма, несущем ответственность не только перед собой, но также перед Богом и другими людьми. Церковь скрепляет людей в единое тело, главой которого является Богочеловек Иисус Христос. Единство церковного тела — прообраз того единства, к которому в эсхатологической перспективе призвано все человечество. В Царстве Божием люди будут соединены с Богом и между собою той же любовью, что соединяет Три Лица Святой Троицы. Образ Святой Троицы являет человечеству то духовное единство, к которому оно призвано. И Церковь будет неустанно — вопреки всякой разобщенности, всякому индивидуализму и эгоизму — напоминать миру и каждому человеку об этом высоком призвании.
Противостояние между христианством и дехристианизированным миром особенно очевидно в области нравственности. В секулярном обществе превалирует либеральный нравственный стандарт, отрицающий наличие абсолютной этической нормы. Согласно этому стандарту, для человека допустимо все, что не противоречит закону и не нарушает права других людей. В секулярном лексиконе отсутствует понятие греха, и каждый человек сам для себя определяет тот нравственный критерий, на который он ориентируется. Секулярная мораль дезавуировала традиционное представление о браке и супружеской верности, десакрализовала идеалы материнства и чадородия. Этим исконным идеалам она противопоставила «свободную любовь», гедонизм, пропаганду порока и греха. Раскрепощение женщины, ее стремление во всем уравняться с мужчиной привело к резкому снижению рождаемости и острому демографическому кризису в большинстве стран, адаптировавших секулярную мораль.
Вопреки всем современным тенденциям Церковь, как и столетия назад, продолжает проповедовать целомудрие и брачную верность, настаивает на недопустимости противоестественных пороков. Церковь осуждает аборт как смертный грех и приравнивает его к убийству. Высшим призванием женщины Церковь считает материнство, а высшим благословением от Бога — многочадие. Православная Церковь прославляет материнство в лице Божией Матери, Которую она величает как «честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим». Образ Матери с Младенцем на руках, нежно прильнувшим щекой к Ее щеке, — вот тот идеал, который Православная Церковь предлагает всякой христианской женщине. Этот образ, в бесчисленном количестве вариантов присутствующий во всех православных храмах, обладает величайшей духовной притягательностью и нравственной силой. И до тех пор, пока Церковь существует, она будет — вопреки любым веянием времени — напоминать женщине о ее призвании к материнству и чадородию.
Современная мораль десакрализировала смерть, превратила ее в унылый, лишенный всякого положительного содержания обряд. Люди боятся смерти, стыдятся ее, избегают говорить о ней. Некоторые предпочитают, не дожидаясь естественного конца, добровольно уходить из жизни. Получает все большее распространение эвтаназия — суицид при помощи врачей. Люди, прожившие жизнь без Бога, умирают так же бесцельно и бессодержательно, как они жили, — в такой же духовной пустоте и богооставленности.
Православный верующий за каждым богослужением просит у Бога христианской кончины, безболезненной, непостыдной, мирной, он молится об избавлении от внезапной смерти, дабы успеть принести покаяние и умереть в мире с Богом и ближними. Кончина христианина — это не смерть, а переход к вечной жизни. Видимым напоминанием об этом является икона Успения Пресвятой Богородицы, на которой Матерь Божия изображена благолепно распростертой на смертном одре, в окружении апостолов и ангелов, а пречистую душу Ее, символизируемую младенцем, принимает на Свои руки Христос. Смерть есть переход к новой жизни, более прекрасной, чем земная, и за порогом смерти душу христианина встречает Христос — вот та весть, которую несет в себе образ Успения. И Церковь всегда — вопреки всем материалистическим представлениям о жизни и смерти — будет возвещать эту истину человечеству.
Можно было бы привести множество других примеров икон, возвещающих те или иные нравственные истины. По сути, каждая икона несет в себе мощный нравственный заряд. Икона напоминает современному человеку о том, что, помимо того мира, в котором он живет, есть еще иной мир; помимо ценностей, проповедуемых безрелигиозным гуманизмом, есть еще иные духовные ценности; помимо тех нравственных стандартов, которые устанавливает секулярное общество, есть еще иные стандарты и нормы.
А отстаивание основных норм христианской нравственности становится сейчас для всех нас важнейшей задачей. Это уже не только исполнение миссии, но проблема выживания христианской цивилизации. Ибо без абсолютных норм человеческого общежития, в условиях тотального релятивизма, когда могут быть подвергнуты сомнению и затем упразднены любые принципы, общество, в конце концов, обречено на полную деградацию.
В борьбе за сохранение в душах людей евангельских идеалов, борьбе с силами зла настолько сложной и разноплановой, что мы даже не всегда можем опираться на рациональные доводы человеческой логики, часто на помощь нам приходит красота выдающихся произведений подлинного искусства. «Мне думается, что искусство (с «христианской точки зрения») не только возможно и, так сказать, оправдано, но что в плане христианского «едино же есть на потребу», может быть, только искусство и возможно, только оно и оправдано. Христа мы узнаем — в Евангелии (книга), в иконе (живопись), в богослужении (полнота искусства)» (38).
В заключение своей лекции я хотел бы сказать несколько слов об исключительном значении иконы в Православии и его свидетельстве миру. В сознании многих, особенно на Западе, Православие отождествляется прежде всего с византийскими и древнерусскими иконами. Мало кто знаком с православным богословием, мало кому известно социальное учение Православной Церкви, немногие заходят в православные храмы. Но репродукции с византийских и русских икон можно увидеть как в православной, так и в католической, протестантской и даже нехристианской среде. Икона является безмолвным и красноречивым проповедником Православия не только внутри Церкви, но и в чуждом для нее, а то и враждебном по отношению к ней мире. По словам Л. Успенского, «если в период иконоборчества Церковь боролась за икону, то в наше время икона борется за Церковь» (39). Икона борется за Православие, за истину, за красоту. В конечном же итоге, она борется за душу человеческую, потому что в спасении души заключается цель и смысл существования Церкви.
2Прот. Александр Шмеман.
3Е. Трубецкой. Три очерка о русской иконе. Иное царство и его искатели в русской народной сказке. Изд. второе. М., 2003. С. 7.
4Священник Павел Флоренский. Иконостас. В кн.: Собрание сочинений. Т. 1. Париж, 1985. С. 221.
5Святитель Григорий Великий. Письма. Кн. 9. Письмо 105, к Серену (PL 77, 1027-1028).
6Преподобный Иоанн Дамаскин. Первое защитительное слово против порицающих святые иконы, 17.
7Преподобный Феодор Студит . (PG 99, 340).
8Преподобный Иоанн Дамаскин. Цит. по: В. Лазарев. Византийская живопись. М., 1997. С. 24.
9Архимандрит Зинон (Теодор). Беседы иконописца. СПб., 2003. С. 19.
10Преподобный Иоанн Дамаскин. Третье защитительное слово против порицающих святые иконы, 8.
11Преподобный Иоанн Дамаскин. Второе защитительное слово против порицающих святые иконы, 14.
12Прот. Александр Шмеман. Исторический путь Православия. Гл. 5, § 2.
13Л. Успенский. Богословие иконы в Православной Церкви. С. 120.
14 В некоторых храмах такой образ, написанный на стекле и подсвеченный изнутри электричеством, размещается в алтаре на горнем месте, что свидетельствует не только об отсутствии вкуса у авторов (и заказчиков) подобных композиций, но и о незнании или сознательном игнорировании ими иконописной традиции Православной Церкви.
15 Например, крест (без распятия) или «Престол уготованный» — символическое изображение Престола Божия.
16Л. Успенский. Богословие иконы в Православной Церкви. С. 132.
17Архимандрит Зинон . Беседы иконописца. С. 19.
18Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры, 2, 12.
19Е. Трубецкой. Три очерка о русской иконе. С. 40-41.
20Е. Трубецкой. Три очерка о русской иконе. С. 25.
21Святитель Григорий Нисский. О душе и воскресении.
22 См.И. Языкова. Богословие иконы. М., 1995. С. 21.
23 Т.е. вместе с человеком.
24Е. Трубецкой . Три очерка о русской иконе. С. 44.
25Е. Трубецкой . Три очерка о русской иконе. С. 46-47.
26Е. Трубецкой . Три очерка о русской иконе. С. 48-49.
27Дионисий Ареопагит . О божественных именах 4, 7.
28Лосский Н. О . Мир как осуществление красоты. М., 1998. С. 33-34.
29Лосский Н. О . Мир как осуществление красоты. С. 116.
30Иеромонах Габриэль Бунге . Другой Утешитель. С. 111.
31И. Языкова . Богословие иконы. С. 33.
32Святитель Василий Великий . О Святом Духе, 18.
33Священник Павел Флоренский . Иконостас. В кн.: Иконостас. Избранные труды по искусству. СПБ., 1993. С. 40-41.
34Преподобный Иосиф Волоцкий . Отвещание любозазорным и сказание вкратце о святых отцах, бывших в монастыре, иже в Рустей земле сущих. В кн.: Великие Минеи Четии митрополита Макария. Сентябрь 1-13. СПб., 1868. С. 557-558.
35Архимандрит Зинон (Теодор) . Беседы иконописца. С. 22.
36Иеромонах Софроний . Старец Силуан. Париж, 1952. С. 13.
37Л. Успенский . Богословие иконы Православной Церкви. С. 430.
39Л. Успенский . Богословие иконы в Православной Церкви. Париж, 1989. С. 467